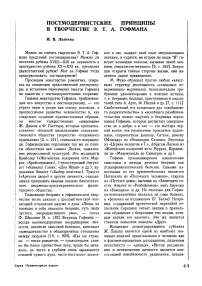Постмодернистские принципы в творчестве Э.Т.А. Гофмана
Автор: Лаптева И.В.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Прикладная культурология. Философия
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14719092
IDR: 14719092
Текст статьи Постмодернистские принципы в творчестве Э.Т.А. Гофмана
Можно ли считать творчество Э. Т. А. Гоф-i мана предтечей постмодернизма? Можно ли i писателя рубежа XVIII—XIX вв, переносить в пространство рубежа XX—XXI вв., преодолев двухсотлетний рубеж? Мог ли Гофман тогда предчувствовать постмодернизм?
Проследим новаторство романтика, опираясь на концепции представителей посткульту: ры, и установим пересечения текстов Гофмана ■ по аналогии с постмодернистскими теориями.
Главное новаторство Гофмана, приближаю-I шее его искусство к постмодернизму, — это утрата веры в разум как основу познания, в ■ прогрессивное развитие человечества и, как : следствие, создание художественных образов, во многом тождественных «шизоидам» i Ж. Делеза и Ф. Гваттари, которые противопоставляют «больной цивилизации» капиталис-; тического общества творчество «-подлинного ! художника» [2, с. 121], социального извращен-■ ца. Гофмановские персонажи так же не поня-: ты обществом как «шизо» Делеза, задавлен] ное репрессивной культурой. Это музыканты j Крейслер («Житейские воззрения кота Мур-I ра», «Крейслериана»), Странствующий Энтузиаст («Кавалер Глюк», «Дон Жуан» и др.); художники Эдмонт («Выбор невесты»), Траугот («Артусов двор») и другие личности, отказавшиеся принимать каноны внешне благополучного дворянско-аристократического филистерского общества.
Толкование безумия в гофмановском творчестве тесно связано с шеллингиан-ской концепцией отношения разума и духа. «Люди, не носящие в себе никакого безумия, суть люди пустого, непродуктивного ума», — писал Ф. Шеллинг [8, с. 132]. Безумцы Гофмана — всегда высокоодаренные неординарные личности, носители «высокой болезни», вносящие «замешательство в общепринятые отношения между людьми» [10, с. 928]. «Как ни странно, — писал романтик, — сумасшедшие, словно бы более причастные духу, вроде бы нечаянно, но часто в глубине лишь заражаются стихией чужого духа, часто постигают затаен ное в нас, выдают свой опыт непривычными звуками, и чудится, не второе ли наше “Я" говорит зловещим голосом, вызывая озноб веянием сверхъестественного» [9, с. 363]. Безумцам открыты тайные стороны жизни, они наделены даром предвидения.
М. Фуко обращает против любых «властных» структур деятельность «социально отверженных» маргиналов, бессознательно требующих удовлетворения в поисках истины, т. е. безумцев, больных, преступников и мыслителей типа А. Арто, Ф. Ницше и др. [7, с. 111]. Свойственный его концепции дух «глобального разрушительства» и «всеобщего разоблачительства» можно ощутить в безумных персонажах Гофмана, которые достигают совершенства не в добре, а в зле — это мастера черной магии, так называемые проклятые художники, сопричастные дьяволу, Сатане, демону (Медардус из «Эликсиров Сатаны», Бертольд из «Церкви иезуитов в Г.», Абрагам Лисков из «Житейских воззрений кота Мурра», Кардиль-як из «Мадемуазель де Скюдери» и др.).
Гофман проанализировал клинические симптомы и методы лечения безумия как психофизиологической болезни. Самыми известными из его душевнобольных являются Натаниэль из «Песочного человека», старуха из «Пустого дома», цыганка из «Зловещего гостя», Амалия из «Разбойников», мать Аврелии из «Вампиров» и др. Но главным для Гофмана-психоаналитика являлась не сама болезнь, а «феномен ее отражения» (Р, Телле). Например, страдающий хронической паранойей отшельник Серапион читает лекции о правильном обращении с безумцами тем людям, которые хотели его излечить. Это же является главным замыслом новеллы «Друг».
Концепция децентрированного субъекта Ж. Лакана является одной из наиболее значимых моделей представления о человеке как о фрагментированном, разорванном, лишенном целостности — «дивиде». «Мотив расщепления и исчезновения личности является констатацией неизбежности раздвоения, показа- телем сложности человеческой натуры» [7, с. 179}. Ученый утверждает, что бытие человека невозможно понять без его соотнесения с безумием, как не может быть человека без элемента безумия внутри себя: «Мое “Я” было расщеплено, по крайней мере, на сотню своих подобий, — говорил Гофман словами Медардуса из романа “Эликсиры сатаны" — Каждое из них прозябало, по-своему осознавая жизнь, и напрасно голова пыталась восстановить свою власть над остальными членами; как взбунтовавшиеся подданные, они отказывались вернуться под ее крышу* [9, с. 500], Даже сам Гофман в порыве аффективных влечений сомневался в идентичности своего «Я» в зеркальном отражении.
Внешний и внутренний миры романтика в своей чуждости чаще всего появляются в темном отражении зеркала («Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Приключения в Новогоднюю ночь», «Пустой дом» и др,). Их фокусом является «Я», которое само себе сомнительно и должно вновь отражать свой разрушенный идентитет. При этом стекло оказывается местом трансформации видимого в символ за счет странной операции выворачивания, инверсии, «возвращения глубины» (М. Б. Ямпольский). «Я ли это?» — на рубеже столетий эта проблема становится вновь актуальной. Вопрос «Мы ли это?» можно поставить по отношению ко всей России, которая отвернулась от проблем духовности в пользу проблем материальных, превратилась из «субъекта номер один» в «субъект номер два» (В. О. Пелевин).
«Стадия зеркала» французского постструктуралиста Ж. Лакана как «трансформация, происходящая с субъектом, когда он принимает на себя некий образ» по своей аналитической сущности аналогична зеркальности Гофмана. Эта стадия в развитии индивида может восприниматься не просто как эпоха его истории, но как изначальный этап истории, в котором начинается «непрекращающая-ся борьба с Другим собой, со своим двойником» [6, с. 79]. Как и у Лакана, зеркальность Гофмана порождает множество образов, которые «достраиваются» вторичными идентификациями с Другими в течение всей его индивидуальной и общественной жизни, Лаканов-ская «стадия зеркала» — это «драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от недостаточности к антиципации» [4, с, 516], благодаря которой, на наш взгляд, романтик опередил свое время, как бы предвосхищая ■ зеркальность в русле постмодернизма.
Практически для всех постструктуралистов было важно понятие «Другого» в человеке или его «инаковости» (Ж. Деррида) по отношению к себе — того не раскрытого в себе Другого, присутствие которого в бессознательном делает человека нетождественным само- i му себе. Именно такие настроения мы нахо- ; дим в творчестве Гофмана, который поднял ; проблему идентификации своего «Я» в произ- , ведениях. Еще в XIX в. художник универсалы = него дарования сумел раздвинуть границы искусства и разглядеть подобную «инако- ' вость». В поисках своей «гиперреальности» : (Ж. Бодрийяр) Гофман смешивал реальное и | вымышленное, симулируя реальность в вирту- ! альности. :
Ж.-Ф, Лиотар определяет искусство уни-нереальным трансформатором либидозной энергии и «постмодернистский писатель или ' художник находится в положении философа: текст, который он пишет, и произведение, кото- ; рое он создает, почти не подчиняются заранее установленным правилам. Эти правила и ка- ; тегории и суть предмет поисков, которые ве- . дет само произведение искусства. Художник ' и писатель, следовательно, работают без пра- : ВИЛ, ИХ цель И СОСТОИТ В ТОМ, чтобы сформули- : ровать правила того, что еще только должно быть сделано» [5, с. 140]. Гофман выступал теоретиком собственного творчества и создавал свободную от нормативности игру реальных и идеальных художественных образов, противопоставляя ее классицистической догматике. Уникальное мышление писателя, по нашему предположению, как бы предчувствовало появление нового мышления в культуре нашего времени.
Актуализация гофмановского наследия в современной культуре не состоялась бы без «смерти автора» Р. Барта, который считает, что «функции литературы в новую эру кардинально меняются, приходит эпоха читателя, и рождение читателя должно произойти за счет смерти автора» [ 1, с. 391]. Мы не утверждаем, что романтик XIX в. предугадал зарождающуюся «смерть автора» в искусстве, но его фантастическое есть безличный мир, в котором все анонимно, и «нет субъекта действия»
(К. Г. Ханмурзаев), и все — это Другие, даже сам писатель — Другой по отношению к себе, объект действия объективированного и необъективированного миров.
Маргинальное мышление Гофмана явственно воплощено в нарративной структуре текстов, в основе его произведений — миф (миф о Л. да Винчи в романе «Эликсиры Сатаны» и др.) или реальное событие, что отдаленно напоминает гено-текст постмодернистов. В гофмановских творениях реальность так «завуалирована» в причудливые формы, что процесс верификации (разграничения текста и реальности) решается различно в зависимости от сознания субъекта, который сам распознает или не распознает в виртуальных художественных образах реально существующие объекты действительности.
Но эти структуры творчества Гофмана отвечают принципу неизбыточности семиотических систем Э. Бенвениста, согласно которому каждая система знаков уникальна и в ней смысл тех же самых знаков и структур качественно иной. Постмодернистские структуры и тождественны, и прежде всего отличны от гофмановских принципов, т. е. их качество не то, что в постмодернизме, так как они функционируют в иной телеологии: а) истины и поэтиче-ской правды, в которой частное определяет общее и это общее определяет ча стное, тогда как у постмодернистов нет общего, вообще и частное не определяет ни общего, ни частного в деконструкции; б) социальной совместимости людей, постигающих бесчисленное множество своих «Я» в добре и зле; в) эстетизируется не зло, порок, безобразное, а преодоление вытесненных комплексов и г) творческие идеи укоренены в переживаниях немецкого народа, человечества, уникальных личностей.
Можно ли прямо ответить на поставленный вопрос: является ли творчество Гофмана предтечей постмодернизма? На наш взгляд, Гофман не может быть постмодернистом, но его творчество в силу своей нарративности выделяется на фоне своего времени. У каждого нового явления бывают предшественники, в творчестве которых закладываются элементы новых технологий, черты иной образности и др. Фантастическое романтика есть желание создать «новую эпоху в искусстве», синтезирующую в себе новые технологии и эксперименты, значит, он явился предшественником чего-то нового. Художник универсального дарования предчувствовал постмодернизм, который в конце XX в., вобрав в себя черты многих философских и культурологических направлений, стал одним из основополагающих в культуре, искусстве и мировиде-нии в целом.
' Поступила 10.06.08.
Список литературы Постмодернистские принципы в творчестве Э.Т.А. Гофмана
- Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 616 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М., 1990. 146 с.
- Красильникова Е. Г. Постмодернистский дискурс русского романа 1970-х годов. Пенза, 2005. 256 с.
- Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я», открывающуюся нам в психоаналитическом опыте//Лакан Ж. Семинары. М., 1999. Кн. И. С. 508-516.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. 160 с.
- Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб., 2005. 156 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 390 с.
- Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. 469 с.
- Hoffmann Е. Т. A. Die Elixiere des Teufels [CD-Rom]//Hoffmann E. T. A. Ausgewahlte Werke. Berlin, 1998. S. 296-801.
- Hoffmann, E. T. A. Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufalligen Makulaturblattern [CD-Rom]//Hoffmann E. T. A, Ausgewahlte Werke. Berlin, 1998. S. 802-1465.