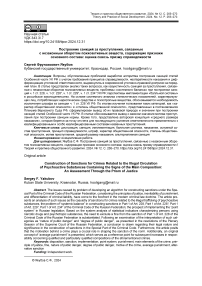Построение санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, содержащие признаки основного состава: оценка сквозь призму справедливости
Автор: Якубов С.Ф.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Вопросы, обусловленные проблемой выработки алгоритма построения санкций статей Особенной части УК РФ с учетом требований принципов справедливости, неотвратимости наказания и дифференциации уголовной ответственности, выдвинулись в современной уголовно-правовой доктрине на передний план. В статье представлен анализ таких вопросов, как казуистичность санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, проблемы «системного баланса» при построении санкций ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228¹, ч. 1 ст. 229¹, ч. 1 ст. 234¹ УК РФ; перспективы имплементации «балльной системы» в российское законодательство. На основе системного анализа статистических показателей, характеризующих лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, обосновывается необходимость исключения штрафа из санкции ч. 1 ст. 228 УК РФ. По итогам изучения толкования таких категорий, как «характер общественной опасности» и «степень общественной опасности», представленных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, сформулирован вывод об их правовой природе и значении при построении санкций статей Особенной части УК РФ. В статье обосновывается вывод о важном значении мотива преступления при построении санкции нормы. Кроме того, представлена авторская концепция «среднего размера наказания», которая берется за точку отсчета для последующего усиления ответственности применительно к квалифицированным и особо квалифицированным составам названных преступлений.
Диспозиция, санкция, имплементация, балльная система, наказание, основной состав преступления, принцип справедливости, штраф, характер общественной опасности, степень общественной опасности, мотив преступления, средний размер наказания, альтернативная санкция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147357
IDR: 149147357 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.31
Текст научной статьи Построение санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, содержащие признаки основного состава: оценка сквозь призму справедливости
Справедливость санкции – это ее соответствие характеру и степени общественной опасности деяния, за которое она устанавливается законодателем. Таким образом, диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы должны коррелировать между собой в части соответствия уголовно-правового запрета последствиям, предусмотренным за его нарушение. Однако многие российские ученые обоснованно выступают с критикой законодателя в этой части, поскольку в уголовном законе невозможно проследить какие-либо закономерности в установлении границ санкций в связи с применением различных видов наказания, их пределов, объема и т. д. (Густова, 2015: 43).
По мнению О.Ю. Бунина, важным способом формирования в законе справедливой санкции является соотнесение видов и размеров (сроков) наказаний, установленных в санкциях смежных норм Особенной части УК РФ, между собой при сравнении признаков, характеризующих элементы составов преступлений, за совершение которых они установлены»1.
Между тем современная система санкций в УК РФ представлена значительным их многообразием и альтернативным характером. Многие санкции являются кумулятивными. В этой связи ученые обращают внимание на сложности при конструировании санкций в статьях Особенной части УК РФ в аспекте соблюдения «принципа системного баланса» (Карабанова, 2019: 274). Однако данный верный, по сути, вывод в то же время не может быть основанием для отказа от традиционного концепта построения санкции в отечественном уголовном законе, согласно которому во главу угла поставлена цель назначения соразмерного и справедливого наказания, в том числе и благодаря представленной в санкции возможности выбора видов уголовных наказаний и их размеров. Именно по этой причине в отечественной законодательной и правоприменительной практике не имеет перспективы так называемая «балльная система» назначения наказаний, исключающая альтернативность санкции, устанавливаемой за преступление, содержащее признаки основного состава. В этой связи предложения о ее имплементации в отечественное законодательство вряд ли обоснованы2. В свете сказанного заслуживающим внимания является вопрос об ограничении судейского усмотрения, продуцируемого широким использованием законодателем при определении наказуемости преступлений системы сложных альтернативных санкций без указания их нижнего предела (ч. 1 ст. 228, ч. 2‒3 ст. 234¹ УК РФ). В данном случае возникает проблема нивелирования ведущей роли нормативного предписания при определении окончательного вида и размера наказания. Пределы ответственности за конкретные преступления должны отличаться четкостью и стабильностью, что в конечном итоге снизит уровень казуистич-ности правоприменительной практики, в том числе сузит рамки судейского усмотрения.
При конструировании санкций за преступления, содержащие признаки основного состава, отправной точкой является характер и степень общественной опасности деяния, базирующиеся на значимости для социума объекта посягательства, в том числе дополнительного; характера причиняемых им последствий; мотивов его совершения. Законодателю необходимо четко сбалансировать санкции, устанавливаемые за конкретные преступления, исходя из первого названного критерия, обеспечивая таким образом: 1) соответствие санкции уровню опасности деяния; 2) внутреннюю согласованность санкций между собой, с тем чтобы примерно равные по уровню опасности преступления не наказывались различно в зависимости от второстепенных обстоя-тельств3 (Густова, 2016: 131).
Устоявшаяся судебная практика, транслируемая правоприменителю посредством постановлений Пленума Верховного Суда РФ, оценивает содержание категории «характер общественной опасности» преступления через те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые направлено деяние, и причиненный им вред4. В свою очередь оценку степени общественной опасности деяния рекомендовано основывать на анализе конкретных обстоятельств содеянного, в частности, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла
(прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность)1. Подобный подход представляется вполне оправданным.
Посредством законодательного закрепления категорий преступлений в ст. 15 УК РФ определены пределы типовых санкций для каждой из них. Типовая санкция, в свою очередь, оказывает влияние на содержание санкций статей Особенной части УК РФ: так, для преступлений небольшой и средней тяжести санкция должна быть максимально альтернативной, для преступлений тяжких и особо тяжких – безальтернативной. Вместе с тем должна сохраняться обоснованная вариативность между нижним и верхним пределом санкции, т. е. она в любом случае должна быть относительно-определенной. Обусловлено это тем, что по мере повышения степени общественной опасности совершенного деяния требуется безапелляционность мер принуждения, реализуемых государством для достижения целей наказания, и минимизация субъективизма в процессе применения законодательных положений. В силу сказанного представляется ошибочным суждение о том, что чем опаснее разновидность преступлений, тем больше должно быть в санкции видов наказаний (Козлов, 1998: 336–339). Сложно также согласиться с выводом о том, что дополнительные наказания должны вводиться в санкцию лишь для преступлений, обладающих повышенной общественной опасностью (Козлов, 1998: 336). Напротив, их значение заключается в усилении профилактического потенциала применяемых мер уголовно-правового воздействия в виде уголовного наказания. Дополнительное наказание должно отталкиваться от мотивационной направленности преступного деяния, учитывать специфику его объекта и предмета. Кроме того, его применение может быть обусловлено специальным статусом субъекта преступления. В силу сказанного кумулятивными могут быть санкции как альтернативные, так и безальтернативные. Они могут предусматриваться для всех категорий преступлений. Однако при установлении дополнительных наказаний необходимо иметь в виду, что их наличие усиливает суровость санкции.
К числу дискуссионных относится вопрос о количестве основных наказаний в альтернативных санкциях, допустимом при конструировании статей Особенной части УК РФ. Определенной закономерности законодатель не предлагает. Одни ученые ратуют за три основных наказания при построении альтернативной санкции, другие (они составляют большинство) считают, что оптимальным является наличие двух, что не будет утяжелять законодательную конструкцию и затруднять ее восприятие правоприменителем2. Важным аспектом построения справедливой санкции выступает обеспечение плавного перехода при возрастании степени суровости наказания. Следует также учитывать, что реализация наказания осуществляется через призму двух принципов – его дифференциации и индивидуализации. Альтернативность санкции позволяет в процессе назначения наказания реализовывать требование его соразмерности.
При построении санкций важно учитывать мотивы преступлений. Если в основе совершения преступления лежит корыстная мотивация, то наиболее рациональным в аспекте достижения цели предупреждения выступает формирование штрафной санкции. Если же степень общественной опасности деяния столь высока, что штраф не сможет обеспечить достижения принципа справедливости, то необходимо его предусматривать в качестве дополнительного наказания. В силу сказанного возникает вопрос об обоснованности включения штрафа в санкции норм ст. 228 УК РФ: в ч. 1 ст. 228 УК РФ он выступает в качестве одного из установленных в ней основных наказаний, а в ч. 2 и 3 статьи – в виде дополнительного. В теории уголовного права штраф отнесен к имущественным наказаниям, направленным на корректировку корыстной преступной мотивации субъекта преступления. По справедливому утверждению А.А. Драговцевой, целью штрафа выступает не столько возмещение вреда, причиненного виновным, сколько восстановление социальной справедливости (Драговцева, 2022: 4).
Полагаем, что в действующей редакции УК РФ в угоду политике «ложного гуманизма» штраф зачастую необоснованно включается в санкции норм как некий атрибут гуманного отношения законодателя к виновным в совершении преступления. На это обращают внимание многие отечественные авторы (Урусов, 2018: 109). Нельзя упускать из вида, что правовая природа штрафа заключается в ограничении имущественных интересов лица, совершившего преступление. Необоснованно при этом делать акцент на том, что штраф, согласно оценке законодателя, – наиболее мягкое наказание, предусмотренное в ст. 44 УК РФ. Таким образом, сущность и правовая природа штрафа обусловливают его включение в санкции норм, криминализующих главным образом корыстные преступления. Исходя из сказанного, лишено смысла его включение в санкции иных норм. Важным аспектом правовой оценки того или иного вида наказания выступает его эффективность, достигаемая исполнением в полном объеме. Именно поэтому выбор штрафа при назначении наказания должен осуществляться с учетом имущественного положения осужденного, возможности получения им заработной платы, объективных и субъективных обстоятельств совершения преступления.
Криминологические данные отчетливо свидетельствуют о том, что социально-демографическая характеристика лиц, привлекаемых к ответственности по ст. 228 УК РФ, не дает объективных оснований для применения в отношении них штрафа. Это лица молодого возраста, страдающие наркотической зависимостью или зависимостью от психоактивных веществ, не имеющие постоянного источника дохода, ведущие, как правило, маргинальный образ жизни. Потребителями наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации являются лица в возрасте до 16 лет – 27,5 %; 16–18 лет – 32,7 %; от 19–21 года – 12,5 %; 22–25 лет – 10,5 %; 26– 35 лет – 8,7 %; 36–40 лет – 6,3 %; свыше 40 лет – 1,8 %1. По данным независимых экспертов, в 2023 г. средний возраст наркозависимых – от 16 до 30 лет. Другой источник также указывает на доминирующую долю лиц молодого возраста в числе потребителей запрещенных веществ в РФ (60 % – от 16 до 24 лет)2. Более 60 % составляет молодежь 18–25 лет, 20 % – люди старше этого порога, а на оставшиеся 20 % приходятся несовершеннолетние лица, начиная с 7-летнего возраста. В 2020–2021 гг. число наркоманов в России увеличилось до 5 млн, а периодически принимают наркотики примерно 13 млн россиян3. В ноябре 2022 г. Минздрав заявил, что наркотической зависимостью в РФ страдает около 400 тыс. человек. Но представленная статистика учитывает лишь тех аддиктов, которые состоят на учете. По данным проекта «Трезвая Россия», реальная ситуация куда тревожнее: в 2023 г. количество людей с пристрастием к психоактивным веществам приблизилось к 6 млн, что составляет 3,5 % от численности населения страны4.
Сопоставима с приведенными данными и информация, содержащаяся в официальных отчетах судебной статистики: в 2022 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ осуждено 32 839 чел., из них: в возрасте от 14 до 17 лет – 272; от 16 до 24 лет – 4 838; от 25 до 29 лет – 5 578; от 30 до 40 лет – 20 434. В целом, по данным судебного департамента РФ, доля лиц, совершивших наркопреступления в возрасте 18–29 лет – наиболее активном возрасте реализации личности, составляет 35,6 %, доля несовершеннолетних – 2 %5. Из них лиц, не имеющих постоянного источника дохода, – 20 443 чел. (62 %), безработные (имеющие официальный статус) – 176 чел.6 В 2022 г. штраф был назначен по 11 996 приговорам (20,9 %) от общего их числа7.
Вопрос о нецелесообразности установления штрафа в качестве наказания в санкциях ст. 228 УК РФ стоит на повестке дня с момента принятия УК РФ. Необходимость его исключения из санкций указанной статьи обосновывалась в работах М.Л. Прохоровой8 (Прохорова, 2002; Прохоров и др., 2018: 170), А.В. Рыбиной9 и др.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наносит серьезный вред здоровью граждан, духовно-нравственным основам российского общества, правопорядку и рассматривается на государственном уровне как угроза национальной безопасно-сти10. Таким образом, в силу объективной криминальной обстановки, необходимости решения национальной задачи обеспечения демографической безопасности посягательства, связанные с нелегальным обращением указанных субстанций, оцениваются государством как имеющие крайне высокий уровень общественной опасности. Без учета указанного обстоятельства невозможно сформировать справедливую уголовно-правовую санкцию.
Метод определения среднего размера наказания за преступления, содержащие признаки основного состава, обосновывают в своих трудах многие отечественные авторы1. Анализ санкций за соответствующие преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, дает основание для вывода о том, что средний размер наказания в них равен:
– по ч. 1 ст. 228 УК РФ – 1 год 6 мес. лишения свободы;
– по ч. 1 ст. 228¹ УК РФ – 6 лет лишения свободы;
– по ч. 1 ст. 229¹ УК РФ – 5 лет лишения свободы;
– по ч. 1 ст. 234¹ УК РФ – 1 год ограничения свободы.
Указанные значения среднего размера наказания необходимо рассчитывать, исходя из наиболее строгого предусмотренного санкцией наказания в силу того, что прикладной аспект такого значения выражается в определении отправной точки увеличения санкции применительно к квалифицированным и особо квалифицированным составам названных преступлений. Таким образом, нижний предел наиболее строгого наказания за такие преступления, по сравнению с преступлениями, содержащими признаки основного состава, должен быть увеличен на указанное значение, т. е. на средний размер наказания.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что справедливость наказания, реализуемая посредством установления его вида и размера в санкции нормы, должна иметь объективную почву в виде характера и степени общественной опасности криминализуемого конкретной нормой Особенной части УК РФ деяния. Обязательным условием конструирования в законе справедливой санкции выступает учет мотивов поведения лица, совершившего преступление. Наиболее значимо это условие для включения в санкцию штрафа. Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, не относятся к корыстным, включение законодателем в санкции ч. 1, 2 и 3 ст. 228 УК РФ штрафа является необоснованным. Данный вывод подтверждает и социально-демографическая характеристика субъектов рассматриваемых преступлений – подростки, лица молодого возраста, не имеющие, как правило, постоянного источника дохода. Указанные обстоятельства обусловливают неисполнимость штрафа при его назначении судом за указанные преступления. В основе построения санкций должен лежать критерий среднего размера наказания, установленного за преступления, содержащие признаки основного состава, согласно которому должны увеличиваться нижние и верхние пределы наказаний применительно к квалифицированным составам. Только при соблюдении такого условия возможно формирование объективно обоснованной и стройной системы санкций в их корреляции с характером и степенью общественной опасности деяния.
Список литературы Построение санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ, содержащие признаки основного состава: оценка сквозь призму справедливости
- Густова Э.В. К вопросу о построении типовых санкций в Уголовном кодексе Российской Федерации // Юристъ-правоведъ. 2015. № 5. С. 41-45. EDN: VIDLXD
- Густова Э.В. Совершенствование санкций уголовно-правовых норм как один из способов уголовно-правового воздействия на предупреждение преступлений // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 2. С. 51-55. EDN: WCAZSH
- Драговцева А.А. Штраф как вид современного уголовного наказания // Теория права и межгосударственных отношений. 2022. Т. 1, № 10 (30). C. 3-11.
- Карабанова Е.Н. Проблемы системной пенализации (на примере дифференциации уголовной ответственности за преступления с многообъектным составом) // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 2. С. 271-282. https://doi.org/1017150/2500-4255.2019.13(2).271-282. EDN: ZZPMGD
- Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. Красноярск, 1998. 406 c.
- Прохоров Л.А., Прохорова М.Л., Полтавец В.В. Об эффективности мер, применяемых к лицам, признанным больными наркоманией // Вестник Омского университета. Серия "Право". 2018. № 3 (56). С. 168-174. DOI: 10.25513/1990-5173.2018.3.168-174 EDN: XYZIEH
- Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование: монография. СПб., 2002. 322 с. EDN: IBNFCF
- Урусов А.А. Штраф как вид уголовного наказания // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2018. С. 108-115. EDN: VNSCSM
- Чубарев В.Л. Общественная опасность преступления и наказание (количественные методы изучения) / под ред. Ю.Д. Блувштейна. М., 1982. 96 с.