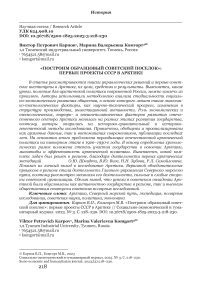«Построим образцовый советский поселок»: первые проекты СССР в Арктике
Автор: Карпов Виктор Петрович, Комгорт Марина Валерьевна
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (29), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются поиски управленческих решений и первые советские институты в Арктике, их цели, средства и результаты. Выясняется, какие уроки, полезные для арктической политики современной России, можно извлечь из прошлого. Авторы использовали методологию анализа стадиальности социально-экономического развития общества, в основе которого лежат такие экономико-технологические факторы, как научно-технический прогресс, изменения в структуре производства, инвестиционной активности. Роль экономических и технологических, внутри- и внешнеполитических факторов развития отечественного сектора Арктики менялась на разных этапах развития государства, поэтому авторы опирались на историко-сравнительный и историкогенетический методы исследования. Привлечены, обобщены и проанализированы как архивные данные, так и воспоминания современников, публикации последних лет. На основании этого предложена периодизация отечественной арктической политики на пионерном этапе в 1920-1930-е годы. В основу определения хронологических рамок положена степень участия государства в освоении Арктики, масштабы и эффективность арктической политики. Выясняется, какой комплекс задач был решен в регионе, благодаря деятельности первых арктических экспедиций О.Ю. Шмидта, В.Ю. Визе, Н.Н. Зубова, Р.Л. Самойловича. Показан их личный вклад в исследование Арктики. Вершиной объединительных процессов в регионе стала деятельность Главного управления Северного морского пути, поэтому рассмотрен механизм его деятельности, сильные и слабые стороны советской организации. Сделан вывод, что успехи в советском овладении Арктикой были обусловлены как активностью государства в регионе, так и высоким общественным статусом советских полярных исследований.
Арктика, северный морской путь, экспедиция, полярные исследования, советская наука, политика, экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/140301499
IDR: 140301499 | УДК: 624.908.10 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-3-218-230
Текст научной статьи «Построим образцовый советский поселок»: первые проекты СССР в Арктике
Введение . В заголовок статьи вынесены слова Отто Юльевича Шмидта, сказанные им во время знаменитой экспедиции на «Челюскине» (1933–1934 гг.). Они во многом характерны для понимания целей руководства страны в 1930-х гг.: социалистическое государство должно преодолеть все трудности в высоких широтах, потому что для него «нет преград ни в море, ни на суше». В планах раннего СССР город-новостройка замышлялся как «город-сад», а если речь шла об устройстве полярного поселка, то ему надлежало стать образцом для всех остальных стран в решении экстремальных задач Крайнего Севера.
Первый советский опыт освоения Крайнего Севера, хотя и опирался на дореволюционные практики, имел большую специфику в связи с особенностями политической системы, возможностью концентрировать ресурсы на ключевых направлениях экономического развития, создавать суперорганизации, вроде Дальстроя или Главного управления Северного морского пути (ГУСМП), для достижения поставленных целей. Многое из этого опыта использовалось с успехом и в позднем СССР с поправкой на время и возможности государства. Так, Главтюменнефтегаз – крупнейший производственный главк нефтяников Западной Сибири – по своим возможно- стям освоения территории, огромным полномочиям и ресурсам во многом напоминал своего предшественника – ГУСМП. Главк в 1960–1980-е гг. имел свое общественное питание, базы, склады, магазины, рыболовецкие суда, свой транспорт, свои колхозы – полное самообеспечение всех работников. В этом отчетливо видны отголоски довоенного опыта организации хозяйства на Крайнем Севере.
Цель исследования . Анализ советских управленческих решений в Арктике с позиций сегодняшнего дня. Конечно, многое из советского прошлого уже утратило свою актуальность, но следует понимать, что суровый климат и труднодоступность Арктики во многом сближают практику освоения этого региона государствами вне зависимости от их политического строя и идеологических предпочтений. Поэтому успешность арктической политики России в ХХI веке зависит в немалой степени от того, будет ли учтен предыдущий опыт. Несмотря на множество трудов, посвященных советской Арктике, до сих пор мало публикаций, ставящих задачей анализ эволюции государственных концепций освоения стратегически важного макрорегиона. Научная новизна статьи заключается в попытке исследовать не столько практику освоения Крайнего Севера, сколько оценить подходы, представления, концепции освоения территории, цели и средства первых советских проектов в Арктике.
Задачи исследования : определить степень участия государства в арктических исследованиях в 1920–1930-е гг.; выяснить основные мотивы движения государства в высокие широты; дать периодизацию истории освоения арктической политики раннего СССР; ответить на вопрос: что из прошлого опыта может быть полезным в современных условиях?
Материалы и методы исследования. В изучении советской политики в Арктике мы исходили из принципа историзма и методологии анализа стадиальности социально-экономического разви- тия общества. В основе первого принципа лежит рассмотрение советских институтов в историческом контексте, в основе второго – экономико-технологические факторы, такие как научно-технический прогресс, изменения в структуре производства, инвестиционной активности. Роль экономических, внутри- и внешнеполитических, технологических, природно-географических факторов развития отечественного сектора Арктики менялась на разных этапах развития государства, поэтому авторы опирались на историко-сравнительный и историкогенетический методы исследования.
Историография проблемы слишком обширна и могла бы стать предметом отдельной статьи или монографии. Тем не менее следует дать несколько поясняющих штрихов к исследуемой теме. Первые обзорные работы об организации советских арктических исследований появились уже в 1930-е гг. Их авторами были сами полярники, участники экспедиций В.Ю. Визе, В.К. Есипов, М.И. Шевелев и др. [1, 2, 3]. Они делились личным опытом, знакомили с первыми советскими успехами в изучении северных морей и отдельных островов. Это был во многом взгляд изнутри на проблемы Арктики. Обобщающие монографии о полярных исследованиях в 1920–1930-е гг. появились после Великой Отечественной войны [4, 5]. Особый интерес представляют биографические работы, которые не только углубляют наши представления об отдельных сюжетах арктической эпопеи, но и очеловечивают ее [6]. Среди публикаций постсоветского периода выделяются научной новизной и новыми методологическими подходами исследования, посвященные отдельным арктическим регионам и особенно Ямалу [7], работы, анализирующие теоретические и идеологические аспекты политики СССР в Арктике [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Интересны, как взгляд со стороны, статьи и книги зарубежных историков, оценивающих советский опыт критически в сопоставлении с мировым опытом [16, 17, 18, 19].
Результаты исследования и их обсуждение . Первые советские шаги в Арктике показывают преемственность по отношению к дореволюционному периоду как в целях, так и в средствах. Развитие инфраструктуры Северного морского пути (СМП), организация полярных станций для получения гидрометеорологических прогнозов, изучение ледовой обстановки – все эти мероприятия не были исключительной заслугой нового советского государства, а осуществлялись еще в дореволюционный период в начале ХХ века. Важную роль в сохранении преемственности сыграл и тот факт, что работавшие в Советской Арктике Р.Л. Самойлович, В.Ю. Визе, Н.Н. Матусевич, Н.М. Книпович, Н.Н. Зубов, А.Е Ферсман, П.В. Виттенбург и другие выдающиеся ученые начинали свою научную карьеру до революции. Главным инструментом освоения Арктики служило на всем протяжении ХХ века развитие СМП, а шло оно тем же путем, что и прежде, – вдоль побережья Северного Ледовитого океана (СЛО) с выходом в устья Оби и Енисея.
Целью изучения Арктики и главным мотивом похода в высокие широты как до, так и после 1917 г., было использование ее ресурсов для нужд экономики. При этом историки расходятся в представлении о том, что именно двигало практику освоения Севера в первую очередь: геополитические, географические цели или доступ к природным ресурсам региона? Что в большей степени характеризует советскую политику в Арктике – долгосрочная перспектива или сиюминутные интересы? Чего больше в этой политике – преемственности или прерывистости? Насколько велики были зазоры между планами Центра и реальной практикой их воплощения? Соглашаясь с тем, что главным мотивом освоения Крайнего Севера в 1960–1980-е гг. стали его минерально-сырьевые ресурсы, М.Г. Агапов полагает, что в 1920–1950-е годы мотивы были другими: Север был нужен Советскому государству в одном случае как канал экспорта сибирского ле- са, в другом – как место ссылки [9, с. 184]. Однако в любом случае для того, чтобы развивать СМП, крайне желательно было создание новых топливных баз вдоль трассы трансполярной магистрали. Об этом свидетельствуют настойчивые поиски нефти и угля в Арктике уже в 1930– 1950-е гг. Геологоразведка, поиски месторождений угля и нефти, других полезных ископаемых стали одним из главных направлений деятельности ГУСМП.
Для того чтобы решать арктические проблемы, государству нужно было, прежде всего, обеспечить транспортный доступ к территории, а единственным путем сообщения с Крайним Севером в то время был водный. Проблемы СМП следовало срочно решать как для хозяйственного развития, так и с целью советизации Крайнего Севера, интеграции его в экономику РСФСР (СССР). На начальном этапе важную роль в этом сыграли Карские товарообменные экспедиции. Уже в июле 1918 г., несмотря на скудные ресурсы государства, Совнарком счел возможным выделить 1 миллион рублей для гидрографической экспедиции в западный сектор СМП [20, с. 35]. Экспедиции были переданы все материальные ресурсы, которыми располагала новая власть, – пароходы и ледоколы, авиация, радиостанции, снаряжение и топливо. Наряду с другими трудностями, которые ждали полярников, проблема заключалась и в том, что моря вдоль трассы СМП, включая Карское, строго говоря, не являются морями, так как не закрыты берегами, а представляют собой заливы СЛО и открыты для льдов, выносимых из бассейна СЛО. Это осложняло ледовую обстановку и условия мореплавания. Большую часть года плавать здесь было опасно, что подтверждали первые попытки пройти трассу СМП за одну навигацию.
Сразу после окончания Гражданской войны в 1920–1921 гг. судна Главного гидрографического управления «Беднота», «Арктур», «Пахтусов», «Таймыр» ушли в Карское море, вели работы в про- ливах Новой Земли – Югорском и Ма-точкином Шаре, Карских Воротах. Были введены в строй разрушенные в годы войны радиостанции о. Диксон. Летом 1921 г. океанографический отряд на ледоколе «Таймыр» изучал юго-западную часть Карского моря, выполнив заодно и роль ледового патруля для судов Карской хлебной экспедиции, возвращавшейся из устья Енисея.
На долю первых советских полярников выпали тяжелые испытания. Им пришлось работать в условиях создания нового государства, испытывавшего большую нужду, а потому и материальные условия исследователей Арктики были почти нищенскими. Работники зачастую не обеспечивались необходимыми предметами и продуктами питания. О снаряжении полярников можно судить по сметам, актам списания и другим финансовым документам, оставленным береговыми полярными партиями. В одной из смет, датированной апрелем 1923 г., числятся 20 пар валенок, столько же полушубков, кружки, чайники медные, 4 ножа, 2 лопаты, 2 лодки и брезент. Из акта о списании снаряжения, пришедшего в негодность в 1923 г., видно до какой степени изнашивались одежда, палатки, посуда и другое скудное снаряжение: шлюпки, брезентовые шинели, мешки, латанные-перелатанные палатки, ис-превшие от влажного климата оленьи шкуры, которые служили военморам постелями [21, л. 46].
Однако материальные, технические, кадровые и иные проблемы и трудности компенсировались сильной мотивацией реализации арктических проектов. Освоение высоких широт превратилось во всенародную задачу, отождествлялось с успехами и преимуществами нового строя. Арктика усилиями советских СМИ становилась территорией подвига, ярким олицетворением побед сталинского социализма. В 1930-е годы Арктика была для СССР тем же, чем в 1960-е годы стал космос, – местом постановки грандиозного шоу, демонстрирующего достижения советского духа и техники [9, с. 184]. При этом прагматические соображения часто отходили здесь на второй план.
Официальная пропаганда советского подвига в Арктике ярко отразилась в освещении эпопеи челюскинцев, чей корабль был раздавлен льдами СЛО. Правда, у части населения эта пропаганда отклика не нашла, что отразилось в народном творчестве:
«Весь Союз боялся. Девушки рыдали.
Все газеты вспоминали вас.
Ваши телеграммы целовали дамы...
Вот пробил спасенья час.
Вы теперь на суше весело живете, Добрались в родимую страну.
Деньги получили, в Крым вас прокатили...
Пусть "Челюскин" плавает по дну».
Это куплет из песенки, которую на мотив "Мурки" пели современники героев-полярников, о чем свидетельствуют следственные дела НКВД [22]. Если же не брать в расчет идеологию и пропаганду, то дух территории – отвага и мужество, более открытые человеческие отношения, большая свобода от бюрократического контроля – это то, что определяло особую социальнопсихологическую атмосферу арктиче- ского «фронтира», как арены великих свершений [19, с. 112–113].
Несмотря на то что в 1920-е гг. освоение Заполярья становилось своеобразной советской визитной карточкой, в этот период еще не было четкой системы планирования научного освоения региона. Планы исследований составлялись лишь отдельными учреждениями, главным образом гидрографического профиля. Все исследования – гидрографиче- ские, метеорологические, географические, геологические, биологические и экономические – координировала на первых порах Северная научнопромысловая экспедиция (Севэкспеди-ция), действовавшая при ВСНХ с марта 1920 г. В феврале 1925 г. она была преобразована в Научно-исследовательский институт, который возглавил прежний руководитель Севэкспедиции, известный ученый-геолог Р.Л. Самойлович.
В марте 1921 г. постановлением СНК был образован Плавучий морской научный институт (Плавморнин) при Наркомпросе РСФСР. Так, ранг морских исследований Крайнего Севера из личнообщественного интереса поднимался до государственной задачи. Идея создания Морского института возникла у группы гидрологов МГУ, руководил которой Иван Илларионович Месяцев, работавший на Крайнем Севере еще в первые годы ХХ века. В 1922 г. для института на верфях Архангельска было построено спецсудно «Персей». В первый рейс 16 научных сотрудников под руководством И.И. Месяцева вышли в августе 1923 г. Гидрологической группой руководил Николай Николаевич Зубов. Его монография «Морские воды и льды», изданная в 1938 г., использовалась как учебник для специалистов-мореведов в гидрометеорологических вузах. На счету первого советского научно-исследовательского арктического корабля «Персей» было более 80 рейсов в Белое, Баренцево, Норвежское и Гренландское моря [6, c. 81]. Погибло судно в результате бомбардировки люфтваффе в Мурманском порту в 1941 г.
В 1929 году Плавморнин был реорганизован в Государственный океанографический институт (ГОИН), а все разрозненные гидрометеорологические службы разных ведомств страны были объединены в Гидрометеорологический институт при СНК СССР. Так создавалась единая сеть Гидрометслужбы СССР, ускорившая развитие советской науки о ледовых прогнозах. С каждым годом советские полярники уходили все дальше в высокие широты. В 1928 г. ледоколы «Г. Седов» и «Книпович» дошли, исследуя льды между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном, до 81 градуса северной широты (с.ш.). В 1929 г. «Г. Седов» с океанографическими работами прошел до 82 градуса с.ш., установив рекорд высоты в Арктическом бассейне. В том же году на Земле Франца-Иосифа была построена научная обсерватория. На митинге по случаю ее открытия О.Ю. Шмидт объявил остров территорией СССР [6, c. 88].
В целом же в 1920-е гг. действия Советского государства в регионе диктовались, скорее, интуитивными представлениями о чрезвычайных богатствах Арктики, чем научным прогнозом. Хотя первые попытки централизованного планирования полярных исследований связаны с 1928 г., когда было принято постановление СНК СССР об усилении научноисследовательских работ (НИР) в Арктике (31.07.1928 г.) [23], материалы плана первой советской пятилетки (1928/1929 – 1932/1933 гг.) еще не содержали сколько-нибудь определенных стратегических установок по Арктике. Правительственной комиссии под председательством С.С. Каменева, созданной для организационной и финансовой проработки 5-летнего плана арктических НИР, не удалось его реализовать. Сам 5-летний план был представлен, но его рассмотрение затянулось на полгода, а указанные в проекте мероприятия не были выполнены за 2 года существования Арктической комиссии (АК), за исключением пункта о строительстве полярных станций. В 1932 г. АК была ликвидирована.
Реорганизация институтов, координирующих усилия полярников, возобновилась после успешной экспедиции О.Ю. Шмидта на «Г. Седове», открывшей новые острова (Визе, Шмидта, Архипелаг Седова). Изучение всех природных процессов в Арктике с 22 ноября 1930 г. было возложено на Всесоюзный арктический институт (ВАИ), а практическое руководство освоением Севморпути Совнарком возложил на Главное управление
Северного морского пути, формирование которого началось с 1933 г. и продолжалось до 1938 г.
Мы полагаем, что эти решения были спровоцированы успехом «сибиря-ковцев», который власть хотела закрепить. Напомним, что в 1932 г. ледокол «Сибиряков» первым из советских кораблей прошел СМП за одну навигацию. Это стало событием в освоении не только СМП, но и Арктики в целом. Здесь важно отметить, что развитие СМП не только в 1920-е, но и в начале 1930-х гг. опиралось еще на слабую материально-техническую базу. Особенно отставало арктическое судостроение: подавляющую часть ледоколов и ледокольных пароходов, действовавших в 1930-е гг. в СССР, составляли суда, закупленные до 1917 г. в Великобритании и Канаде. Корабль, названный в честь Александра Сибирякова, был английского происхождения и в 1909 г., когда был куплен, назывался «Bellawenture». Оценив сполна успех «Сибирякова», СНК и принял решение о создании ГУСМП (декабрь 1932 г.) – своеобразного арктического министерства, ответственного за все направления освоения региона и объединившего в своей структуре все работавшие здесь организации, прежде относившиеся к разным ведомствам.
С 1933 г. началось создание системы территориальных управлений ГУСМП в арктических районах СССР. Постановлением Совета Труда и Обороны от 11 марта 1933 г. функции упраздняемых объединения «Комсеверпуть» (предшественника ГУСМП) и Арктической комиссии при СНК СССР полностью перешли к ГУСМП, а в его структуре были созданы территориальные управления (тресты), которым передавалось право хозяйственного и политического управления территориями Крайнего Севера выше 62-й параллели. С 1933 года под управлением ГУСМП находились Эвенкийский, Таймырский, Чукотский и ЯмалоНенецкий национальные округа (НО), северные районы Якутии (Якутской АССР). На Ямале был образован Северо-
Уральский трест (СУТ) ГУСМП с центром в Обдорске (сегодня город Салехард – столица Ямало-Ненецкого автономного (с 1977 г.) округа), в задачи которого входили освоение Обского участка СМП, развитие судостроения, организация пушных заготовок и зверобойного промысла, экспорт леса. Первым руководителем СУТ ГУСМП (в 1933–1935 гг.) стал известный исследователь Крайнего Севера В.П. Евладов. В феврале 1935 г. в порядке реорганизации приказом ГУСМП была создана более четкая структура в виде 6 территориальных управлений с центрами в Ленинграде, Архангельске, Тобольске (Омское управление), Игарке (Красноярское), Якутске и Владивостоке (Дальневосточное). Территориальные управления ГУСМП деятельно участвовали в развитии арктической навигации. В июле – сентябре 1933 г. из Омска через Обскую губу в порт Тикси было совершено первое плавание речного теплохода «Первая пятилетка» с лихтером, однако на местах задачи ГУСМП все больше стали смещаться к хозяйственно-бытовому и социальнокультурному обслуживанию коренных северных народностей – ненцев, чукчей, коряков и др. Эти функции ГУСМП усилились после упразднения в июле 1935 г. союзного Комитета Севера при президиуме ВЦИК, а в августе 1936 г. – системы интегральной (смешанной) кооперации, осуществлявшей торговозаготовительное обслуживание коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В результате территориальные управления Главсевморпути вынуждены были взять на себя задачи организации заготовительной деятельности, торговли и снабжения КМНС, развития туземной экономики, просвещения и здравоохранения. В июле-августе 1934 г. приступило к работе Политическое управление ГУСМП с системой подчиненных ему органов (политотделов) при территориальных управлениях. В обязанности политотделов входило обеспечение политического руководства всей работой на Севере, подбор и воспитание кадров, пропа- ганда советских успехов на Севере, просвещение КМНС. Политотделы фактически осуществляли политический контроль за местными процессами, пытались советизировать КМНС [21, л. 51].
Финансирование многогранной деятельности ГУСМП выросло в 1933–1937 гг. более чем в 22 раза, с 18 до 400 млн руб., составив за пятилетку 922 млн руб. [24, с. 96]. ГУСМП, кроме прочих, решал важные задачи по разведке и освоению природных ресурсов Заполярья, принес большую пользу в геологоразведке, пробной эксплуатации открытых месторождений, устройстве портового хозяйства, судоверфей, появлении других индустриальных очагов в Арктике, особенно на пионерных стадиях промышленного освоения. Геологами ГУСМП был открыт целый ряд месторождений нефти, угля, золота, олова, сделан верный прогноз о местонахождении уникальных газовых месторождений Ямала, открытых позже, в 1960-е годы. Разведка велась широким фронтом от Мурманска до Чукотки, как вдоль побережья Северного Ледовитого океана, так и на его островах.
Рост масштабов освоения Арктики сопровождался усилением планового начала в северной политике. В плане 2-й советской пятилетки Арктика уже фигурирует в качестве особого направления работы [25]. Специальный раздел «Освоение Советской Арктики» поставил масштабные задачи в геологоразведке, горной, лесной отраслях промышленности, в развитии транспорта. В директивах 5летнего плана было заявлено, что «от отдельных мероприятий по изучению и хозяйственному освоению Арктики мы переходим к < … > широкому изучению и промышленному освоению заполярных районов Советского Союза» [26, c. 241]. Вторую пятилетку и создание специальной организации – ГУСМП, должной обеспечить выполнение ее арктической составляющей, считают поворотным моментом в истории Советской Арктики как отечественные, так и зарубежные исследователи [16, с. 37].
С начала 2-й пятилетки советское присутствие в Арктике становится все более очевидным. В 1933 году здесь вела научные наблюдения флотилия из полутора десятка судов: «Арктика», «Г. Седов», «Красин», «Сибиряков» и др. В их задачу входило не только снабжение постоянных научных баз, но и открытие новых полярных станций. К началу Великой Отечественной войны их было уже 19. В 1933 г. для повторения успеха «Сибирякова» снаряжается неледокольное грузовое судно – пароход «Челюскин». Известная всем соотечественникам эпопея «челюскинцев» показала большую степень риска в освоении Заполярья. Однако гибель парохода (люди были спасены), раздавленного в феврале 1934 г. льдами Чукотского моря, не остановила мореплавание в Арктике. Катастрофа показала, что ходить в Северный Ледовитый океан без ледокольной проводки очень опасно.
Успех «Сибирякова» – сквозное плавание по трассе СМП за одну навигацию – в 1934 г. повторила экспедиция на ледоколе «Федор Литке». После успехов мореплавания в 1934–1936 гг. директор ГУСМП О.Ю. Шмидт объявил, что трасса СМП освоена для нормального судоходства. Однако В.Ю. Визе на основе анализа гидрометеорологических ситуаций заявил в январе 1937 г. о том, что строительство полярных станций отстает от практического освоения СМП на 10–15 лет [6, c. 61]. Ученый предостерегал от поспешных выводов, и его позиция оставалась актуальной как в позднем СССР, так и сегодня: арктическая политика должна быть нацелена на перспективу, избегать ситуационных решений.
Неудачная навигация 1937 года подтвердила правоту Визе: в плену арктических льдов оказались десятки судов. Основной причиной неудачи было слабое знание гидрометеорологических условий вдоль полярной трассы. В результате последовали оргвыводы, постепенное освобождение ГУСМП от выполнения культурно-хозяйственных задач на Крайнем Севере и сосредоточение его деятельности на совершенствовании судоходства по трассе СМП. Начальником ГУСМП в марте 1939 г. был назначен И.Д. Папанин. Новый ученый совет ВАИ в том же году возглавил В.Ю. Визе. 1937– 1938 годы известны не только разбором неудач в Арктике с последующими оргвыводами – это пик сталинского террора. Работники ГУСМП – П.В. Виттенбург, Р.Л. Самойлович, С.А. Бергавинов, А.Н. Бобров, Н.И. Евгенов и другие ученые и специалисты, инженеры и техники в 1937–1939 гг. были репрессированы. Всего, по официальным данным, репрессировано более 600 работников системы ГУСМП [27, с. 70].
В период 1933–1934 гг. в освоении советской Арктики начинает принимать активное участие авиация. В феврале 1933 г. появилось Управление воздушной службы ГУСМП, позднее преобразованное в Управление полярной авиации. Создание авиагруппы полярной авиации ГУСМП завершилось в апреле 1934 г. С 1938 г. на самолетах, ведущих ледовую авиаразведку, стали летать гидрологи. Для них были организованы специальные курсы, на которых большим успехом пользовались лекции уже известного к тому времени профессора Н.Н. Зубова. Николай Николаевич и сам в 1939 г. участвовал в преднавигационной авиаразведке, которую возглавил летчик М.В. Водопьянов (четырехмоторный самолет «СССР-Н-171»). Разведчики выяснили (сегодня это кажется очевидным без полетов в Арктику), что по цветовой гамме льдов можно судить о скорости их таяния, а значит и поведении ледового покрова в будущем. Стратегическая ледовая авиаразведка стала проводиться круглый год, а тактическая авиаразведка обеспечивала проводку судов. Полярные летчики в СССР были заслуженно окружены почетом и вниманием за свой героический труд, который сделал Арктику доступной, проложил воздушные трассы к природным богатствам Крайнего Севера. Накопленный в 1920–1930-е гг. опыт в изучении и освоении отечественного сектора Арктики позволил в после- военный период приступить к реализации более масштабных проектов в высоких широтах.
В 1960-е гг. началось создание территориально-производственных комплексов в восточных районах СССР, которые и сегодня служат надежным промышленным каркасом для новых арктических проектов. Раньше других стран в те годы СССР приступил к освоению арктических нефтегазовых ресурсов. Крупнейшим из таких проектов стал ЗападноСибирский нефтегазовый комплекс, значительная часть которого (ЯмалоНенецкий автономный округ) расположена в Арктике. Первые попытки выхода на полуостров Ямал, считающийся сегодня самым подготовленным плацдармом для продвижения в высокие широты, были сделаны еще в позднем СССР в конце 1980-х гг.
Заключение . Удалось ли в довоенные годы превратить отечественный сектор Арктики в «образцовый советский поселок»? Вопрос риторический. Действительность такова, что советские планы, а точнее мечты и представления об Арктике, обгоняли возможности молодого государства. Но, возможно, именно этот молодой азарт, не всегда подкрепленный необходимыми научными расчетами, позволил Советскому Союзу добиться таких успехов в высоких широтах, о которых не могли представить более рациональные исследователи Арктики из других стран.
По методам освоения советской Арктики отчетливо различаются предвоенный период 1920–1930-х гг. и послевоенный – 1950–1980-х гг. Первый характеризовался очаговым освоением Арктики с учетом потребности страны в отдельных сырьевых ресурсах. Главной структурой с 1932 г. стало ГУСМП – управление-комбинат, объединявшее все структуры, заинтересованные в решении арктических задач . Это был яркий образец мобилизационной модели экономики, которую отличают чрезвычайные методы, средства, организационные структуры. Мобилизационная модель не исчерпала себя и поз- же, но в 1960–1980-е гг. формируются территориально-производственные комплексы в попытке перейти от моноре-сурсно-отраслевого к комплексному освоению территории. На смену многоцелевым комбинатам пришли министерства и главки, решающие на Севере задачи более узкого профиля.
На довоенном этапе тоже можно выделить 2 периода: 1) 1920-х гг., когда существовали проблемы координации усилий различных ведомств в изучении Арктики, отсутствовала государственная концепция, единая стратегия освоения Арктики; 2) период 1930-х гг., который характеризовался централизацией исследований в ГУСМП. До конца 1920-х гг. советское правительство оказывало поддержку инициативам отдельных органов и ведомств – Наркомата просвещения, Академии наук, Главного гидрографического управления, Северной научнопромысловой экспедиции, Плавморнина и ученых через строительство полярных станций, организацию экспедиций и специализированных научных организаций (Севэкспедиция, Плавморнин), но еще не брало на себя инициативу в планировании научной деятельности. Отсутствие общего государственного планирования компенсировалось взаимодействием между научными учреждениями в регионе, что, впрочем, не исключало и конкуренции между ними. В 1930-е гг. усилилось плановое начало, государственный подход позволил сконцентрировать на изучении Арктики большие ресурсы, улучшились условия труда ученых, еще выше поднялся общественный статус полярника, с которым могли соперничать, пожалуй, только авиаторы («сталинские соколы») и краснофлотцы.
Сегодня многое из советского опыта освоения Арктики по-прежнему пребывает в диалоге с настоящим. Так, до сих пор не решен вопрос: нужно ли Крайний Север осваивать комплексно? Что нужно строить в Арктике: города или гостиницы? Серьезную угрозу в реализации арктических проектов представляет отток населения, в результате чего численность соотечественников в Арктике сократилась вдвое за последние 30 лет. Освоение Крайнего Севера силами только вахтового персонала, без внимания к проблемам постоянного населения, коренных северян чревато разрушением социального «скелета» территории, а в перспективе потерей для России этого региона.
В ХХI веке освоение Арктики, как и в далекие 1930-е гг., носит преимущественно очаговый, сырьевой, углеводородный характер. Отдельные успехи есть (в частности, ямальские проекты), но в целом развитие региона выглядит хаотичным (ярким примером этому служит нереализованный проект «Урал Промышленный – Урал Полярный») и в чем-то поспешным (если вспомнить попытки разработки Штокмановского и Приразломного месторождений). Для достижения советского размаха в Арктике необходима долгосрочная перспектива ее освоения, отказ от сиюминутных интересов и понимание того, что проекты в высоких широтах окупятся не скоро.
Серьезная проблема заключается и в том, что сегодня по целому ряду позиций у России нет необходимых собственных мощностей для разведки и извлечения арктических природных ресурсов. С другой стороны, растет ее международная изоляция, звучит тревога по поводу того, что иностранные партнеры могут вытеснить Россию из Арктики. Все чаще слышны и голоса тех, кто предлагает повременить с освоением арктических ресурсов, заявляя, что сейчас государству не до Арктики. Так возникает замкнутый круг.
Список литературы «Построим образцовый советский поселок»: первые проекты СССР в Арктике
- Визе В.Ю. История исследования Советской Арктики. Карское и Баренцево моря. 3-е изд. Архангельск: Севкрайгиз, 1935. 233 с.
- Есипов В.К. Острова Советской Арктики. Новая Земля – Вайгач – Колгуев – Земля Франца-Иосифа. Архангельск: Севкрайгиз, 1933. 149 с.
- Шевелев М.И. Арктика – судьба моя: Воспоминания первого начальника полярной авиации. Воронеж: МОДЭК, 1999. 208 с.
- Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики. М.: Наука, 1984. 192 с.
- Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Л.: Морской Транспорт, 1959. Т. 3. 510 с.; Л.: Гидрометеоиздат, 1969. Т. 4. 617 с.
- Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 192 с.
- История Ямала: в 2-х т. Екатеринбург: Баско, 2010. Т. 2. Кн. 1. 368 с.
- Агапов М.Г., Клюева В.П. «Север зовет!»: мотив «северное притяжение» в истории освоения российской Арктики // Сибирские исторические исследования. 2018. № 4. С. 6–24.
- Агапов М.Г. Советский опыт освоения Арктики в зеркале современных проблем // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 2 (49). С. 180–185; Зубков К.И., Карпов В.П. Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте современных стратегий (на материалах Крайнего Севера Урала и Западной Сибири). М.: Политическая энциклопедия, 2019. 367 с.
- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Российская Арктика: к новому пониманию процессов освоения. М., 2018. 400 с.
- Зубков К.И., Карпов В.П. Российские проекты в Арктике: преемственность задач и решений // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 2019. Т. 5. № 1. С. 173–187.
- Зубков К.И., Карпов В.П. Развитие российской Арктики… 367 с.
- Карпов В.П. Советский исторический опыт освоения Арктики в зеркале современных проблем // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 63. С. 25–30.
- Первые в Арктике. Очерки об освоении российского арктического шельфа / В.С. Вовк, С.А. Матросов, Ю.В. Евдошенко [и др.]. СПб.: ООО «Аэроплан Софт», 2019. 232 с.
- Пилясов А.Н., Путилова Е.С. Новые проекты освоения российской Арктики: пространство значимо! // Арктика и Север. 2020. № 38. С. 20–42.
- Armstrong T. The Northern Sea Route: Soviet Exploration of the North East Passage. Cambridge: Scott Polar Research Institute, 1952. 162 p.
- Horensma P. The Soviet Arctic. L.; N.Y.: Routledge, 1991. 230 p.
- Josephson P. The Conquest of the Russian Arctic. N.Y.: Harvard University Press, 2014. 441 p.
- McCannon John. Red Arctic. Polar Exploration and Myth of the North in the Soviet Union. 1932–1939. N.Y.: Oxford University Press, 1998. 234 p.
- Болотников Н.Я. Сибирская хлебная экспедиция 1920 г. // Летопись Севера. М., 1957. Вып. 2. С. 30–40.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 9570. Оп. 2. Д. 3494.
- Тоталитаризм в литературном дискурсе. URL: https://literaturatmcodneoba.tsu.ge › totalit-masala (дата обращения: 06.06.2023).
- Постановление СНК СССР от 31.07.1928 г. «Об усилении научно-исследовательской работы в арктических владениях Союза ССР». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=27636 (дата обращения: 22.02.2022).
- Славин С.В. Формирование концепции освоения Севера во втором пятилетнем плане // Летопись Севера. М., 1979. Т. 9. С. 94–102.
- Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Т. 2: План развития районов. М., 1934. 582 с.
- Россия в Арктике: государственная политика и проблемы освоения / Е.В. Комлева, Н.А. Куперштох, В.А. Ламин [и др.]; Институт Истории СО РАН. Новосибирск: Параллель, 2017. 494 с.
- Евдошенко Ю.В. Неизвестное «Нефтяное хозяйство». 1920–1941 гг. Очерки по истории нефтяной промышленности СССР и отраслевого научно-технического журнала. М.: ЗАО «Нефтяное хозяйство», 2010. 344 с.