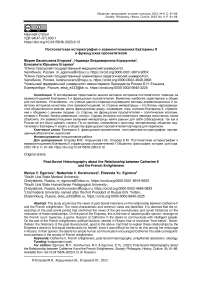Постсоветская историография о взаимоотношениях Екатерины II и французских просветителей
Автор: Егорова М.В., Коршунова Н.В., Егорова Е.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В исследовании представлен анализ взглядов историков постсоветского периода на взаимоотношения Екатерины II и французских просветителей. Выявлены наиболее характерные и общие для них мнения. Установлено, что ученые данного периода подтвердили взгляды дореволюционных и советских историков на мотивы этих взаимоотношений: со стороны императрицы - это боязнь нарождающегося общественного мнения, месть французскому двору, лицемерие, игра, иллюзии Екатерины II, стремление к общению с умными людьми; со стороны же французских просветителей - политические иллюзии, интерес к России, боязнь революции «снизу». Однако историки постсоветского периода попытались также объяснить эти взаимоотношения желанием императрицы найти равных для себя собеседников, так как в России ей это было сделать сложно. По их мнению, стремление к простому человеческому общению подталкивало Екатерину II искать в обществе французских просветителей партнеров для переписки.
Екатерина ii, французские просветители, постсоветская историография, просвещенный абсолютизм, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/149144066
IDR: 149144066 | УДК: 94(47+57):930.1 | DOI: 10.24158/fik.2023.9.12
Текст научной статьи Постсоветская историография о взаимоотношениях Екатерины II и французских просветителей
Челябинск, Россия, , 2Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия, , 3Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, ,
Chelyabinsk, Russia, ,
История правления императрицы Екатерины II сегодня представляется очень актуальной. Среди прочих вопросов большой интерес у специалистов вызывает формирование взглядов императрицы, ее взаимоотношения и переписка с французскими просветителями. В постсоветский период внимание к царственным особам со стороны историков усилилось. Конечно же, не обойдена была им и Екатерина II. Одна за другой выходят работы, так или иначе касающиеся взаимоотношений императрицы и французских просветителей. При этом оценка учеными этой переписки не менее интересна, нежели содержание, так как позволяет обнаружить не только личную позицию конкретного исследователя, но и вектор развития представляемой им исторической науки, политические настроения современности.
Историография даже последних десятилетний, посвященная периоду правления Екатерины II и самой императрице, довольно обширна. Есть обобщающие работы (Садикова, 2015). В то же время специальных исследований, посвященных вопросам историографии взаимоотношений императрицы и просветителей не так уж много (Егорова, Коршунова, 2021; Егорова и др., 2022; Семиколенов, Безбородникова, 2022).
Целью настоящей работы является анализ особенностей оценки причин и последствий столь плотного взаимодействия, переписки императрицы Екатерины II с французскими просветителями на современном этапе с учетом отхода от идеологических рамок.
Методологической основой исследования стал принцип историзма: нами проведен сравнительный анализ современных исторических исследований, посвященных частной проблеме на основании базовых методов анализа и синтеза научного материала.
Особенностью первых постсоветских работ по истории стала резкая смена оценок исторического прошлого, особенно связанного с деятельностью монархов.
В 1994 г. увидела свет книга И.А. Заичкина и И.Н. Почкаева «Русская история: От Екатерины Великой до Александра II». Эта публикация – одна из попыток в популярной форме показать путь, пройденный русским народом на протяжении четырех царствований – Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I. Так что же думают авторы этого произведения по поводу взаимоотношений Екатерины II и французских просветителей? «Принимая во внимание влияние философов на европейское общественное мнение, Екатерина II старалась привлечь их на свою сторону. Переписка с прославленными философами создавала Екатерине репутацию образованной и свободолюбивой правительницы. Философам тоже было не только лестно, но и важно иметь богатых и коронованных поклонников и поклонниц…» (Заичкин, Почкаев, 1994: 22). Увы, взгляд на эту тему не новый. Об этом говорили уже предыдущие историки.
В 1995 г. в Вестнике Московского университета была напечатана статья В.И. Морякова «Политические и социальные идеи консерватизма в “Наказе” Екатерины II» (Моряков, 1995). Автор ее считает, что императрица стояла у истоков русского консерватизма и даже была его родоначальником. В.И. Моряков полностью отрицает наличие в «Наказе» Екатерины II либеральных начал. Возможно, с этим можно согласиться, но весьма спорным представляется тот факт, что автор пытается представить идеи Просвещения как революционные, а не либеральные. Поэтому в некоторых случаях возникает определенное противоречие, когда автор никак не может определить, чем же, в сущности, отличается консерватизм от либерализма. В.И. Моряков, анализируя ряд статей «Наказа», пытается доказать, что бесплодно искать в политике Екатерины II буржуазные черты и элементы государственного либерализма.
Работа Юрия Овсянникова «Три века Санкт-Петербурга» вышла в 1997 г. Несколько строк в ней посвящено и взаимоотношениям Екатерины II с французскими просветителями. В частности, говорится, что чтение работ европейских мыслителей сформировало в императрице четкое представление о целях, которых она хотела достичь, оказавшись на троне. По мнению автора публикации, Екатерина II желала «править империей, чтобы дать подданным собственность, счастье, свободу» (Овсянников, 1997: 77). Но действительность была такова, что императрица вынуждена была согласовывать свои действия с желаниями дворянства, а потому свобода для всех граждан оставалась лишь мечтой в душе и голове правительницы. Будучи политиком прагматического толка Екатерина II с большим успехом использовала просветителей как надежных политических агентов.
В 1998 г. выходит работа доктора исторических наук, профессора, члена Союза писателей Санкт-Петербурга Е.В. Анисимова «Женщины на российском престоле». Надо отметить, что книга написана с большим уважением и любовью к героиням. В частности, о Екатерине II автор говорит следующее: «Понятнее и ближе других кажется нам самая яркая и талантливая из всей вереницы женщин на троне Екатерина II – деятельная и энергичная, умная и веселая, остроумная собеседница, чья сердечность и простота удивительно сочетались с истинным величием и мудростью гениального правителя» (Анисимов, 1998: 6).
Автор данного исследования считает, что сама судьба и врожденные таланты привели будущую императрицу к изучению работ французских просветителей. Современники, знавшие Великую княгиню, видя в ней незаурядный ум, в один голос советовали читать не только французские романы, но и серьезные работы ученых. «Книги по истории, начиная с Тацита до “Всеобщей истории Германии” Барра, приучили ее к историческому подходу к жизни и политике. Это было уже не развлечение, не просто бегство от скуки, а тяжелый умственный труд, причем Екатерина сознательно делала усилия над собой: читая по одному тому в неделю, одолела все десять огромных фолиантов Барра... Монтескье и Вольтер... дали мощный толчок интеллектуальному росту будущей императрицы как государственного деятеля, законодателя» (Анисимов, 1998: 302).
В своей работе Е.В. Анисимов постарался показать Екатерину II не только государственным деятелем, но и обычным человеком, с ее слабыми и сильными сторонами. Говоря о причинах переписки императрицы с французскими просветителями, он на первый план выдвигает ее желание иметь простое человеческое общение. В России при дворе она не могла иметь этого. Ее положение не позволяло окружить себя друзьями, вокруг нее были лишь подданные, ей же хотелось порой просто поболтать. Одиночество, непонимание окружающих, по мнению автора, толкнуло Екатерину II к общению с французскими просветителями. Хотя, надо отметить, что он согласен и с рядом других исследователей в том, что тщеславие также сыграло свою роль в становлении взаимоотношений российской императрицы с западными философами. «Они заставили ее стараться единственно о том, чтоб говорили о ней, научили ее радоваться при слышимых похвалах, которыми ее осыпали со всех сторон, только своею особою занимать свет, не заботясь о том, что будет с государством по смерти ее», – приводит Е.В. Анисимов слова Рюльера (Анисимов, 1998: 368–369).
В 2000 г. вышла коллективная монография «Век Екатерины II. Дела балканские». Одна из глав – «Романтический Наказ и проза государственных будней» – написана В.Н. Виноградовым. Ее автор считает, что в первую очередь, знакомство Екатерины II с трудами французских просветителей продиктовано стремлением к образованию, что и позволило ей выработать стройную систему взглядов на управление государством. Вот что он пишет: «Она, пожалуй, единственная среди российских самодержцев выработала систему взглядов, чему способствовало чтение, коему она увлеченно предавалась всю жизнь, смолоду беря книгу даже на прогулки верхом» (Век Екатерины II. Дела балканские …, 2000: 28). Исследователь считает, что будущая императрица восприняла идеи просветителей всем сердцем и искренне была согласна с их взглядами на многие вещи. Вряд ли она лукавила, когда делала заметки исключительно для себя о таких вещах, как свобода, крепостное право, законность.
В 2001 г. вышла книга П.В. Стегния «Хроники времен Екатерины II». Как отмечает сам автор, эта работа – плод пятнадцатилетнего изучения екатерининской эпохи. Он постарался описать не просто сухие исторические факты, но и передать весь «аромат и вкус» времени правления Екатерины II, а также психологию власти, особенности формирования и принятия политических решений. Говоря о взаимоотношениях императрицы с просветителями П.В. Стегний отмечает следующее: «В своих отношениях с философами Екатерина оставалась женщиной в высшей степени практической» (Стегний, 2001: 34). «Убежденная в своем высоком назначении, она легко заимствовала из произведений философов то, что соответствовало ее взглядам, отсекая ненужное без малейших нравственных колебаний» (Стегний, 2001: 49). Императрица понимала, какие выгоды для создания ее личного имиджа и образа России в Европе принесет это общение с французскими философами. Будучи прирожденным политиком, она давала через эту переписку достойный, профессиональный ответ всем недоброжелателям страны. Неслучайно многие письма Екатерины и Вольтера друг к другу очень часто попадали на страницы европейских газет, а затем обсуждались в парижских салонах. Таким образом, по мнению П.В. Стегния, общение императрицы с философами было серьезной политической игрой, направленной на создание положительного общественного европейского мнения о российском государстве.
А что же французские философы? Они, по мнению автора данной работы, видели в Екатерине II именно того монарха, который способен осуществить грандиозный эксперимент и создать государство, опирающееся на законы, которые основываются на естественном праве. Однако западные мыслители не учитывали того, что Екатерине приходилось работать с живыми людьми, которые сложно воспринимают новые идеи, в то время как философы могли оставаться мечтателями, работающими с бумагой. Видимо, это противоречие и привело в результате к тому, что некоторые из партнеров по переписке со временем разочаровались в Екатерине II. Так, например, Д. Дидро по возвращении из России пишет «Замечания на Наказ Екатерины II», где называет императрицу «деспотом, отрекшимся на словах»1.
Интересная работа доктора исторических наук П.П. Черкасова, посвященная взаимоотношениям России и Франции, вышла в 2001 г. Автор проанализировал международные отношения в годы правления Екатерины II и Людовика XVI. Естественно, освещая отношения с Францией, он не мог обойти своим вниманием вопрос о влиянии французских просветителей на личность и деятельность императрицы. Всем трем французским просветителям (о которых идет речь в нашем труде) автор работы выделяет несколько строк. Приведем некоторые высказывания автора, в которых он выражает свой взгляд на взаимоотношения западных мыслителей и российской императрицы.
О Монтескье: «Она была во власти его идей о разумном государственном устройстве и, взойдя на престол, попыталась осуществить эти идеи на неблагоприятной для них русской почве… Впрочем, под влиянием ближайшего окружения, оказавшегося куда более консервативным, чем сама императрица, Екатерина вынуждена была отказаться от реализации либеральноконституционных идей Монтескье в России» (Черкасов, 2001: 22–23).
О Вольтере: «Следующим, наиболее серьезном увлечением Екатерины стал Вольтер, “ученицей” которого она себя называла… Благодарную память о своем наставнике Екатерина сохранила до конца жизни» (Черкасов, 2001: 23). С последним тезисом, пожалуй, можно поспорить. Известно, что в годы Французской революции императрица велела вынести из своего кабинета бюст Вольтера, и в ней тогда боролись довольно противоречивые чувства к своему корреспонденту.
П.П. Черкасов признает, что Екатерина довольно быстро оценила всю пользу от общения с французскими просветителями для прославления своего царствования и умело этим воспользовалась. «Интерес самодержавной правительницы России к французскому Просвещению и его виднейшим представителям был вызван... не только личными, но и государственными соображениями: протягивая руку дружбы тогдашним властителям дум европейского общества, используя лесть и подкуп, императрица рассчитывала на их поддержку в реализации своих политических замыслов, и она не ошиблась в своих ожиданиях: Вольтер, д’Аламбер, Дидро и Гримм верно служили ее интересам, оправдывая в глазах общественного мнения Европы действия северной Семирамиды...», – делает вывод автор (Черкасов, 2001: 29).
В 2003 г. в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит фундаментальная работа Н.И. Павленко «Екатерина Великая». Автор ее постарался более объективно подойти к теме проникновения идей французского просвещения в русское общественное сознание, нежели это делали его предшественники. «Екатерина Великая, подобно Петру, насаждала в России не производство, а идеологию, свойственную буржуазному обществу, в то время как страна еще не созрела для их спонтанного возникновения и распространения. Напротив, в России существовали объективные условия для развития крепостничества вширь и вглубь. Именно в этом противоречии, а не в личных качествах императрицы кроется суть эпохи – несовместимость развившихся крепостнических отношений с идеологией просветительства» (Павленко, 2003: 8–9). Н.И. Павленко предлагает отойти от односторонних, классовых оценок советских историков взаимоотношений императрицы с просветителями, которые указывали только на фарс, лицемерие и обман со стороны Екатерины II, не учитывая объективной исторической обстановки. С первых дней своего знакомства с идеями французского просвещения и примерно, до 1780-х гг. императрица искренне была увлечена просветительской идеологией и не только увлечена, но и делала весомые шаги для реализации этих идей. «Именно тогда Екатерина II осуществила секуляризацию церковных владений, основала Вольное экономическое общество и Смольный институт, составила знаменитый “Наказ” и созвала Уложенную комиссию 1767–1768 гг.... На 1780-е гг. попадает обнародование и реализация не менее важных нормативных актов: “Устава благочиния, или Полицейского” (1782), “Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства” (1785), “Грамоты на права и выгоды городам Российской империи” (1785), “Устава народных училищ” (1786), “Устава о повивальных бабках” (1789)» (Павленко, 2003: 188).
Автор работы дает понять, что Екатерина II шла впереди своего времени, пытаясь воплотить идеи Просвещения в России. Однако объективная обстановка была такова, что позволяла ей это делать с большой оглядкой на высшее сословие, которое совершенно было не готово поступиться и малой толикой своих привилегий. Время кардинальных перемен еще не пришло. К концу же царствования Екатерина из кумира просветителей превратилась в оплот реакции, и причины для этого были довольно существенные, в том числе и Французская революция. Императрицей овладел неподдельный страх как за свою судьбу, так и за судьбу монархии в России.
В целом работа Н.И. Павленко оставляет после прочтения ощущение того, что автор старается обойти острые углы в дискуссии о взаимоотношениях Екатерины II и французских просветителей. И понять его в этом несложно. Сложившееся мнение на эту тему в советской историографии продолжает довлеть над оценками данной эпохи.
Интересная работа появляется в 2005 г. – это «Очерки истории благотворительности» Т.Б. Кононовой. Одна из глав данного труда посвящена общественному призрению в период правления Екатерины II. Автор работы соглашается с мнением предыдущих исследователей о жизни императрицы и отмечает, что еще в молодости она увлеклась идеями Просвещения, в годы же царствования она попыталась воплотить эти идеи в жизнь. Ярким доказательством того, что Екатерина II прилагала усилия для реализации идей Просвещения служит то, что под ее покровительством и с ее разрешения в России появляются закрытые воспитательные дома для обучения детей «третьего чина», бесплатные частные больницы для бедных, приказы общественного призрения. В обязанность последним «вменялось во всех губерниях организовывать народные школы, больницы, сиротские дома, аптеки, богадельни, дома для неизлечимых больных, дома для сумасшедших, дома работные, дома смирительные»1. Увлечение Екатерины II идеями Просвещения не прошло даром, императрица действительно прилагала усилия для воплощения их в жизнь.
Об искренней вере Екатерины II в идеи просветителей говорит и еще один исследователь – Александр Бушков, затрагивая эту тему в своей книге «Екатерина II: алмазная Золушка» (Бушков, 2005: 182). По мнению автора, реалии того времени не позволили Екатерине реализовать многие свои замыслы в плане управления государством, создания продуманной, стройной системы законодательства.
В 2006 г. появляется труд известного исследователя, искусствоведа и писателя Ирины Борисовны Чижовой «Десять императриц». Один из очерков этой книги посвящен Екатерине II. Автор несколько страниц уделяет описанию переписки императрицы с зарубежными корреспондентами. Мотивы такой коммуникации И.Б. Чижова видит прежде всего в том, что Екатерина II, увлекшись чтением работ французских просветителей в юности, пронесла эту страсть через всю свою жизнь. Она искренне желала воплотить многие их идеи, но как трезвый политик понимала, насколько теория в их трудах отличалась от реалий жизни. По мнению императрицы, они были совершенно оторваны от действительности. Екатерина «насмешливо относилась к “фантазиям” философов и напыщенности людей науки» (Чижова, 2006: 262). В большей степени она использовала это общение для популяризации образа России в Европе, а вместе с тем и ее собственной бурной политической и законодательной деятельности. А еще философы-корреспонденты нужны были ей как друзья, с которыми можно было просто «поболтать». Когда общение прервалось, правительница с горечью ощутила их нехватку.
В том же 2006 г. появилась интересная работа доктора философских наук Марины Юрьевны Савельевой «Философ на троне: Штрихи к портрету Екатерины Великой». И хотя публикация носит характер философского осмысления опыта Просвещения в России, а также размышления над соответствующими категориями, все же нам удалось выявить в ее содержании мнение автора о взаимоотношениях Екатерины II и французских просветителей с исторической точки зрения. М.Ю. Савельева считает, что только лишь Вольтер понимал, чего ждала Екатерина II от общения с философами: «Ей нужен был не государственный советник, а частный собеседник, друг, с которым можно было бы поговорить по душам» (Савельева, 2006: 82). Но это понимал только Вольтер. Дидро же, напротив, приехал в Россию с целью наставлять императрицу в управлении государством, что и привело их к взаимному разочарованию.
Весьма любопытный вывод делает автор книги, говоря о распространении Просвещения в России. М.Ю. Савельева приходит к заключению, что прямого восприятия российским обществом идей французских философов в это время не могло произойти в силу сложившейся ментальности. Французское Просвещение преломлялось через восприятие его императрицей. Только она, обладая обширными знаниями в области философии, а также нося сакральное звание государя, могла передать своим подданным понимание идей французских просветителей. Через ее сознание произошло преломление этих идей, которые и были восприняты в дальнейшем российским обществом.
Оригинальная работа, принадлежащая перу К.А. Писаренко, появилась в 2008 г. Всего несколько строк автор посвящает отношениям между Екатериной II и французскими просветителями, но оценка, которую он им дает, весьма оригинальна. Да, К.А. Писаренко признает, что Екатерина искренне уверовала в идеи просветителей, готова была даже сражаться за них и сгубить немало жизней. То же самое, считает автор, повторилось потом в ХХ в. «Ученики Маркса с той же непримиримостью и бескомпромиссностью будут сражаться за торжество “светлых идеалов” коммунизма, с какой за два века перед тем сражались по всей Европе за триумф Просвещения ученики Вольтера», – пишет автор (Писаренко, 2008: 55). Также он отмечает, что некоторое прозрение приходит к Екатерине II уже в 1773 г., когда она понимает, что идеи французских просветителей совершенно неприменимы на практике (Писаренко, 2008).
В 2014 г. в серии книг, посвященных 300-летию Российской империи появляется второй том, затрагивающий историю России второй половины XVIII в. Автор – Леонид Парфенов – в данном томе рассуждает на тему, что сделала императрица Екатерина II для России изучаемого периода. Одна из глав работы посвящена просвещенному абсолютизму в России. Автор приводит общеизвестные факты о взаимоотношениях Екатерины II с французскими просветителями, повествует о переписке императрицы с Вольтером, о приезде Дидро в Россию, о нелюбви Екатерины II к Руссо. Как же Л. Парфенов оценивает взаимоотношения императрицы с французскими просветителями? По его мнению, Екатерина II, увлекшись еще в молодости произведениями просветителей, пронесла эту привязанность через всю свою жизнь. И да, она мечтала о равенстве подданных перед законом, однако действительность была такова, что республика была лишь идеалом, а действительностью являлось самодержавие. Кроме того, просветители были нужны ей еще и для того, чтобы общаться на равных. «Французские вольнодумцы – глашатаи слов Екатерины на всю Европу. Через них философы-имиджмейкеры изрядно подправили мнение о России и о самой Екатерине» (Парфенов, 2014: 95). Все это увлечение и почитание французских просветителей закончилось, по мнению Л. Парфенова, в 1789 г., когда произошла Великая французская революция, которая не на шутку испугала императрицу. Заигрывание с французскими просветителями на этом закончилось, и началось преследование просветителей русских (Парфенов, 2014).
2017 г. В серии «Интеллектуальная история» выходит работа В. Проскуриной «Империя пера Екатерины II: литература как политика». Общеизвестно, что правительница прекрасно владела не только умением разбираться в политике, но и стремилась проявить свои таланты на литературном поприще. Для того периода времени это умение было еще и модным среди высших кругов Европы. В. Проскурина постаралась выявить основные направления литературных опытов Екатерины II. Есть в работе данного автора и оценка взаимоотношений императрицы с французскими просветителями. В. Проскурина считает, что литературные опыты Екатерины II были данью моде, ей хотелось быть членом литературной республики, для этого она привлекала к обсуждению своих трудов европейских друзей в лице просветителей (Проскурина, 2017: 7). Философы же в свою очередь с готовностью откликались на эту игру императрицы и, как пишет автор, выдавали «Екатерине “пропуск” в просвещенную “республику письмен”» (Проскурина, 2017: 49). Императрица постоянно и с удовольствием делилась своими литературными опусами с европейскими просветителями и в особенности с Вольтером.
Кроме вышесказанного В. Проскурина указывает и еще на одну немаловажную деталь. Екатерина II своими литературными трудами пыталась отвлечь внимание европейской публики, а в их числе и просветителей, от «проблемы власти и политической борьбы вокруг наследника Павла Петровича» (Проскурина, 2017: 75).
В. Проскуриной затрагивается и еще одна тема, связанная с внешней политикой Екатерины II и ее мечтой создать на востоке государство, которое возглавил бы ее внук Константин. Вольтер с большим энтузиазмом поддерживает это желание императрицы и ее фаворита Г. Потемкина. Правда, идет он гораздо дальше замыслов Екатерины. «Эта концепция реставрации древней Эллады, внерелигиозного, секулярного государства, затмевала для Вольтера все очевидные экспансионистские, имперские устремления его корреспондентки» (Проскурина, 2017: 166). По мнению автора, устремления философа и императрицы не совпадали. Екатерина использовала в своих интересах идеи Вольтера и делала вид, что основы Просвещения будут присутствовать в этом проекте. Таким образом, внешняя политика весьма удачно согласовывалась с просветительской концепцией.
Завершая обзор работ современных историков, касающихся взаимоотношений Екатерины II и французских философов, следует отметить следующее. Да, российская императрица действительно была увлечена идеями западных просветителей и даже пыталась их применить на практике, что было, конечно же, довольно сложно сделать в тех условиях. И Екатерине II, и философам было интересно и полезно общение друг с другом. Каждая сторона с успехом для себя использовала переписку. Философам было лестно внимание со стороны императрицы столь великой страны, а Екатерина II весьма удачно применяла это общение для рекламы себя и своей деятельности в европейском обществе. Но также надо отметить, что современные историки все чаще стараются придать описываемым контактам более человеческое, душевное свойство. Многие из них считают, что Екатерине катастрофически не хватало общения на равных – с людьми, близкими ей интеллектуально и духовно. Таких собеседников она и нашла среди философов – с ними можно было говорить на самые разные темы, которые были интересны обеим сторонам.
Список литературы Постсоветская историография о взаимоотношениях Екатерины II и французских просветителей
- Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб., 1998. 416 с.
- Бушков А. Екатерина II: алмазная Золушка. СПб., 2005. 576 с.
- Век Екатерины II. Дела балканские / под ред. В.Н. Виноградова. М., 2000. 295 с.
- Егорова М.В., Коршунова Н.В. Екатерина II и французские просветители: взгляд из-за рубежа // Общество: философия, история, культура. 2021. № 11 (91). C. 41–46. https://doi.org/10.24158/fik.2021.11.7.
- Егорова М.В., Коршунова Н.В., Егорова Е.Ю. Взаимоотношения императрицы Екатерины II и французских просветителей: оценки советских историков // Общество: философия, история, культура. 2022. № 10 (102). C. 119–127. https://doi.org/10.24158/fik.2022.10.21.
- Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: От Екатерины Великой до Александра II. М., 1994. 765 с.
- Моряков В.И. Политические и социальные идеи консерватизма в «Наказе» Екатерины II // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1995. № 1. С. 3–10.
- Овсянников Ю.М. Три века Санкт-Петербурга. М., 1997. 304 с.
- Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2003. 495 с.
- Парфенов Л.Г. Российская империя. Екатерина II, Павел I. М., 2014. 192 с.
- Писаренко К.А. Ошибка императрицы. М., 2008. 320 с.
- Проскурина В.Ю. Империя пера Екатерины II: литература как политика. М., 2017. 256 с.
- Савельева М.Ю. Философ на троне: Штрихи к портрету Екатерины Великой. К., 2006. 424 с.
- Садикова Д.Р. Характеристика просвещенного абсолютизма Екатерины II в советской современной отечественной историографии // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 2 (155). С. 98–101.
- Семиколенов М.В., Безбородникова М.Е. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II в оценках отечественной историографии // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы. Кемерово; Новокузнецк, 2022. С. 361–362.
- Стегний П.В. Хроники времен Екатерины II. М., 2001. 511 с.
- Черкасов П.П. Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские отношения: 1774–1792. М., 2001. 528 с.
- Чижова И.Б. Десять императриц. М., 2006. 816 с.