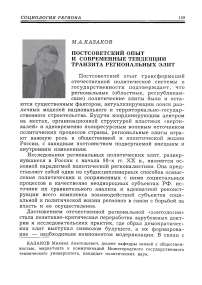Постсоветский опыт и современные тенденции транзита региональных элит
Автор: Казаков Михаил Анатольевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 4 (49), 2004 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются тенденции развития региональных элит в России, различные варианты их трансформации в современном российском обществе.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222145
IDR: 147222145
Текст научной статьи Постсоветский опыт и современные тенденции транзита региональных элит
Постсоветский опыт трансформаций отечественной политической системы и государственности подтверждает, что региональные (областные, республиканские) политические элиты были и оста ются существенным фактором, актуализирующим поиск различных моделей национального и территориально-государственного строительства. Будучи координирующим центром на местах, организационной структурой властных «вертикалей» и одновременно полиресурсным волевым источником политических процессов страны, региональные элиты играют важную роль в общественной и политической жизни России, с завидным постоянством подвергаемой внешним и внутренним изменениям.
Исследования региональных политических элит, развернувшиеся в России с начала 90-х гг. XX в., являются основной парадигмой политической регионалистики. Она представляет собой один из субдисциплинарных способов осмысления политических и сопряженных с ними социетальных процессов в качественно неоднородных субъектах РФ. источник их сравнительного анализа и адекватной реконструкции всего комплекса взаимодействий субъектов социальной и политической жизни регионов в связи с борьбой за власть и ее осуществление.
Достижением отечественной региональной «элитологии» стала позитивно-критическая переработка зарубежных доктрин и исследовательских практик, где образ демократических элит выступал символом будущего, а их формирова- ние — необ ходимым компонентом модернизации. В связи с
КАЗАКОВ Михаил Анатольевич, доцент кафедры связей с общественностью, маркетинга и коммуникаций Нижегородского государственного технического университета, кандидат политических наук.
этим следует признать, что концепт «демократического транзита» (в том числе в отношении элит) выполнил свою методологическую функцию в нашей стране вполне рациональным образом. Осуществив ряд теоретических исследований, он по мере расхождения классических идеологем с изменениями в России трансформировался в метод познания национальных специфик осуществляемых преобразований.
Более того, актуализация задач модернизации в условиях глобальной экспансии международного терроризма не снижает, а «переориентирует» актуальность проблемы «демократического транзита». Чтобы состояться и быть успешной в масштабах Российской Федерации, для отечественной модернизации крайне важно преобладание демократических практик регионального перехода над авторитарными. Последствия иного перевеса в истории нашей страны хорошо известны, поэтому не может быть другой рекомендации, кроме усиления внимания всех заинтересованных сторон к реалиям политического взаимодействия структурных составляющих общества и сознательных усилий правящих групп. В этом контексте транзит региональных элит — синоним процесса их перехода к современному уровню развития.
Следует согласиться с мнением исследователей, полагающих, что именно изучение элит регионального уровня представляет собой такое предметное поле, где методология отечественных изысканий начинает приобретать вполне законченную форму, а анализ функционирования элитных групп становится фундаментальной темой, во многом определяющей проблематику прочих региональных исследований1 Тем самым элитное пространство выступает своеобразным контекстом изучения явлений и процессов не только в субъектах РФ, но и в границах государства в целом. Измерения регионального российского политического бытия позволяют получить адекватное представление о проблемах и перспективах формирования гражданского общества в стране, выявить основные препятствия на этом пути, выстроить модели возможных переходов и в конечном счете сформулировать практические рекомендации. Региональный политический процесс в данном случае представляет собой по содержанию совокупности взаимодействий субъектов актуальную интеракцию, главное предназначение кото- рой — изменения политической системы в соответствии с критерием единства ее элементов (сил) и достижения целостности российской цивилизации.
Рассматривая социокультурную среду как величину, отражающую историчность исследуемого явления, мы полагаем возможным определить через нее творческие и иные особенности осуществления элитами своих функций2 Вместе с тем правящие группы — это относительно автономный и специфический субъект саморазвития. Преимущественно в этом их качестве политическая регионалистика и занимается изучением элит, выделяя существенные изменения их конституирования по разным направлениям (формирования и воспроизводства).
Современный подход к исследованиям региональных элит обусловлен объединительными целями постиндустриального развития страны. Он соединяет изучение российской трансформации и анализ роли элит как социального актора в «своей области» или «сфере ответственности». Современные системы взглядов на региональную политическую элиту можно, на наш взгляд, классифицировать в несколько основных групп:
-
— во-первых, концепции, согласно которым источником и содержанием элитизма является процесс влияния;
-
— во-вторых, ролевые концепции, раскрывающие значение региональных элит, исходя из их статусных и формализованных позиций в системе власти;
-
— в-третьих, ценностные концепции и примыкающие к ним интерпретации «групп интересов», согласно которым элита — демиург определяющих политических ценностей и выразитель специфических интересов различных социальных групп;
-
— в-четвертых, «субъект — объективные» концепции, в которых сущность и потенциал региональных элит объясняются через механизмы поддержки и интеграции с другими социальными общностями;
— в-пятых, концепции неоэлитаризма, делающие акцент на механизмах самодостаточности правящих групп, позволяющих им контролировать политические и иные процессы.
Необходимо отметить, что в первоначальных вариантах элитистские теории были весьма негативно расположены к демократии. Впоследствии ситуация радикально изменилась, и элитизм стал рассматриваться как элемент политики, совместимый с процедурами и институтами представительной демократии. Вместе с тем существуют не только концептуальные и «технологические» трудности применимости элитистских конструктов в демократизации российского общества, но и проблемы совместимости теорий демократии и теорий элит. Сама проблематика поставторитарных трансформаций обретает новые очертания. На первый план выдвигается вопрос о том, какая демократия возникает в том или ином обществе и насколько она устойчива.
Важным аспектом характеристики современной элиты России являются процессы регионализации страны и формирования провинциальных элит. Исследования постсоветского транзита региональных элит связаны не только с изучением процесса их институционализации, но и с определением динамики, вектора изменений политического самоопределения, самоорганизации и взаимодействия правящих групп как развивающегося субъекта, осуществляющего свой политический выбор. Влияние этого комплекса перемен на жизнь в регионах находит отражение в специализированной ролевой составляющей доминирующих акторов.
Правомернее сейчас вести речь о специфических коалициях, сложившихся в субъектах федерации в целом, в отдельных населенных пунктах, которые состоят из лидеров и групп, связанных между собой различными типами отношений и вместе определяющих локальный политический процесс3 Однако этого уточнения недостаточно. В действительности имеются разные группы акторов, различающиеся положением, объемом ресурсов, ценностными ориентациями, интеракциями, имиджами и, как следствие, играющие неодинаковую роль в процессах модернизации и интеграции «своих» территорий.
Правящая элита образует специфическую природу политического субъекта, не сравнимого по силе влияния с другими политическими институтами и структурами власти регионального уровня. Одна из особенностей провинциальной России заключается в том, что политическая элита традиционно занимает более важную и значимую роль, чем в западных странах. Она представляет собой сложное, осо- бо интегрированное формирование профессионально действующего в политико-административной сфере меньшинства территориальных обществ, является субъектом принятия и реализации стратегических решений, функционирующим в режиме корпоративных интересов и располагающим необходимыми для этого структурой и ресурсной базой.
Для осмысления роли структурных элементов правящей элиты с позиций их предназначения и изменений по ходу транзита следует обратиться к структурно-деятельностной парадигме «становления» П.Штомпки. Она выявляет в процессе социальных и политических изменений динамику «слияния» структурных характеристик и свойств акторов. Чтобы объяснить природу политических лидеров (в элитах), необходимо иметь в виду, что сущность политического лидерства, на наш взгляд, «триедина» и проявляет себя во взаимодействии личностных, организационно-статусных и социокультурных качеств носителя соответствующих функций.
Постсоветский транзит региональных элит непосредственно связан с характером их взаимоотношений с федеральным центром и динамикой собственного развития. Элиты территорий находятся в поиске наиболее оптимальной для себя модели. Средоточениями транзита являются факторы политического самоопределения, самоорганизации и выбора стратегий интерактивности, на которые влияют процессы общенационального уровня, а именно: автономизация, повышение роли субнациональных элит, формирующих региональные центры власти.
Политическое самоопределение представляет собой когнитивный процесс, в ходе которого конкретный властный субъект не только осваивает основные процедуры мышления и восприятия, но и «нарабатывает» комплекс знаний и ценностей, соответствующих легитимации. Процесс самоорганизации элит, в основе которого лежат их смысловые системы и особый статус правящих на местах элит, позволяет принимать им значимые в масштабах территориальных границ решения и формировать спектр внутренних и внешних отношений. В выборе модели интерактивности преобладают установки на стабильность и правила поведения (политической игры), превалирующие на общегосударственном уровне.
Демократизация российской политической системы, которой предшествовал с «хрущевской оттепели» болезненный период либерализации, когда собственно и начали формироваться региональные элиты, прошла несколько этапов субнационального развития. С 1990 г. каждый из них характеризовался определенной схемой отношений между «старыми» (проторегиональными) и «новыми» (региональными) элитами в рамках субъекта РФ и его связями с правящими группами федерального центра. Обстановка постоянной трансформации российской государственности отражается в перманентно переходном состоянии территориальных политических элит. В связи с этим приходится констатировать, что теоретический аспект идеологии демократического транзита все меньше подходит для описания процессов трансформации в регионах России. Российская трансформация «взламывает» известные схемы уже на этапе разрыва со «старым порядком».
Это можно объяснить тем, что посткоммунистической и постсоветской стране приходится решать проблемы завершения модернизации, актуальные для исторического периода, предшествовавшего демократическому транзиту. Центральная из них — формирование государства-нации. В нынешних регионах этот процесс сталкивается с особенно большими трудностями. Иногда символами национального единства здесь становятся харизматические лидеры, популистские элиты или национал-патриотические движения, в некоторых случаях определяющую роль играет борьба за независимость, этно-конфессиональный фактор. Однако если общество не столько ищет национальную идею, сколько осознает себя как нация, то во власти чаще всего преобладают чувства преданности клану, политической лояльности правящему режиму, которому вверяется достижение государственных целей.
В этих условиях правомерно использование типологии региональных элит в зависимости от характера их поведения и взаимоотношений с федеральным центром. «Автономные элиты» в ней характеризуют стремление к максимальной самостоятельности и даже независимости от центра, вследствие чего нередко повышается уровень конфликтности. «Функциональные» — способ воспроизводства общена- циональных политических процессов и того внутреннего равновесия сил, которое отражает их базовые отношения. Элит, стремящихся к высокому уровню развития региона, отличают усилия в продвижении экономических реформ, опережающих федеральный центр и способность к политической эволюции. И, наконец, «прагматичные» региональные элиты представляют собой группы, утилитарно взаимодействующие с центром с целью получения от него финансовой и политической поддержки. При этом они не афишируют своих представлений о желательном и возможном экономическом и политическом будущем своих территорий, страны.
Незавершенность национального строительства в России заставляет предполагать, что и в XXI в. внимание регионов будет приковано к этому важному и сложному процессу, накладывающему отпечаток на противоречивый характер эволюции территориальных элит. Однако, в отличие от теоретического, мобилизующий аспект идеологии демократического транзита демонстрирует свою востребованность. Это проявляется не только в том, что в сознании правящих групп преобладают две модели управления территориями: одна из них базируется преимущественно на либеральных экономических и политических установках, другая — на государственнических. Принципиально то, что значительная часть региональных элит ориентирована на демократические и рыночные институты, разделяет курс на перестройку системы государственной власти с помощью укрепления доверия к ней общества и мер общенационального значения. Единство страны — главное условие успеха всего комплекса модернизационных процессов.
В этом контексте переход от неконсолидированной (конфликтной) к консолидированной (доверительной) модели элиты является не только вектором дальнейшей трансформации доминирующих региональных групп, но и главным условием их адекватного развития, что содействует сохранению территориальных институтов демократии, а значит укреплению федеративного государства. Разумеется, что изучаемые внутриэлитные отношения конца прошлого и нынешнего века имеют отличительные особенности. Однако в контексте заявленной темы для нас важен прежде всего тот факт, что сложившиеся на сегодня в центре и на мес- тах устойчивые элитные группы в состоянии осуществлять широкий круг организационно-управленческих функций, актуальных для страны в целом и ее регионов. Подтверждением этому являются некоторые тенденции: упорядочение межгрупповой политической борьбы и иерархии элит, изменение значимости региональных лидеров в национальном политическом процессе и стабилизация местных режимов, решение спорных вопросов в рамках переговоров и парламентской деятельности, законодательное регулирование «волн» политической активности по перераспределению руководящих должностей в ходе электоральных циклов и др.
Бесспорно, что сейчас наиболее сильной и конкурентоспособной является президентская коалиция, предпринимающая целенаправленные меры как по интеграции российского общества в целом, так и усилению его солидарности с государственными структурами. На региональном уровне становлению такого сотрудничества способствуют укрепление общенациональных партий и поддержка местных общественно-политических движений; создание разнопрофильных союзов потребителей и других групп давления, связанных с тем или иным прагматическим интересом граждан. Большие возможности для формирования структур солидарности предоставляет использование таких форм политической и электоральной активности, как референдум и разнообразные гражданские инициативы. Рупором сети прагматически ориентированных групп интересов и давления могут быть общественные палаты территорий, способные стать неотъемлемым звеном региональных ассамблей, значение которых сейчас существенно возрастает.
В контексте результатов последних региональных и общенациональных выборов в обществе неизбежны дискуссии по поводу того, насколько современной российской модернизацией органичен процесс демократизации. Конечно, его «размывание» и выхолащивание является угрозой авторитарного перерождения правящего режима и в центре, и на местах. Вызывает сомнение то, что этого сознательно желают в Кремле, сделав шаг к дееспособному национальному государству. В настоящее время не существует политического и административного института, который обеспечил бы условия «горизонтального» и «вертикального» вне- дрения авторитарной модели в России. Более того, региональные элиты, вкусившие плоды дезинтеграции «вертикальной» оси власти, вряд ли воспримут попытки ее авторитарной реконструкции4
Однако даже если принять во внимание тезис о том, что главная цель территориальных элит, консолидированных влиянием центра и угрозой терроризма, является консервация «личной власти» путем использования политической апатии граждан, то опять возникает острейшая необходимость анализа источников и методов достижения этой цели как официальных, так и неформальных, что стимулирует дальнейшее изучение феномена элит. В наиболее широком плане речь идет об исследованиях, отражающих неспособность того или иного социума, территориальной общности воспроизводить более совершенные модели демократического устройства и предоставляющих возможности реализации сознательных установок политических элит на сохранение авторитарных (полуавторитарных) систем под прикрытием формально демократических процедур и институтов.
Авторитарная тенденция деятельности и воспроизводства региональной элиты, выступающая на протяжении постсоветского периода то в формах политического управления и рекрутирования, то в виде средств манипулирования общественным мнением и массовым сознанием, является не только следствием исторического прошлого, но и производной от организационного контекста, свойственного современному обществу. Однако если реализация демократического потенциала транзита элит (тенденций профессионализации, консолидации и развития) поднимает их до высот цивилизованного компетентного истеблишмента, то авторитарные конструкты опускают территориальные правящие группы до уровня лобби. Такая направленность деятельности части региональной элиты при сворачивании политического процесса вполне может возыметь динамику роста и в будущем.
Складывание альтернативы такому вектору развития предполагает упрочение позиций местного самоуправления и структур гражданского общества, наращивание культурно-образовательного пространства, развитие их субъектов и механизмов перерастания участия элит и масс из конф- ликтной в сотрудническую форму, разработку научных моделей и общеобязательных стандартов, позволяющих корректировать административные планы и решения.
Проблемы региональной политики и внутриэлитных трансформаций находятся в непосредственной взаимосвязи с процессами, происходящими в территориальных общностях, что еще больше актуализирует необходимость исследования доминирующих акторов регионов и их современного транзита. В связи с этим перспективен, на наш взгляд, компаративный социологический и политологический анализ динамики совместного с федеральным центром формирования власти в субъектах РФ, процессов трансформации институтов губернаторства и местного самоуправления, территориальных представительств общенациональных партий, разнокачественных проявлений политического самоопределения, поведения и деятельности общественных сил, среднего класса и т.д. Наконец, всегда злободневна проблематика электорального и политического процессов — от практики функционирования формальных институтов до неправовых, неформальных возможностей захвата и удержания власти. Исследовательская повестка дня современного транзита региональных элит периодически пополняется новыми вопросами. Идущие от самой жизни, они «срывают» чередующиеся маски территориальных властей, за которыми нередко скрывается не переход к демократии, а выбор той или иной модели стагнации.
Однако, по меткому выражению В.О.Ключевского, «наука есть не только знание, но и сознание, т.е. уменье пользоваться знанием как следует», поэтому главным является адекватное определение основных путей развития государственной региональной политики, направленной на устранение различных асимметрий. Консолидация территориальных сообществ вокруг целей и задач модернизации создает гарантии для цивилизованного рыночного хозяйства, активного гражданского общества, сохраняющих при этом свою самобытность. Только при условии, что модернизация станет более демократичной, можно говорить об образовании действительно нового регионального политического класса.
Демократический аспект модернизации является наиболее адекватной формой современного типа исторической эволюции. Эффективное государство с сетью соответствующих политических институтов и демократическая консолидация элит представляют собой наиболее результативные способы адаптации к социокультурному контексту информационного общества. Можно выделить несколько основных направлений обеспечения модернизации и безопасности России в сфере ее региональной политики: защиту и гарантии территориальной целостности и национальной идентичности, экономически обоснованных демократических прав и свобод, их ограниченного временем и пространством механизма действенности; активную социальную политику, устраняющую бедность и социальное расслоение; политический процесс, предполагающий высокую степень легальности и предсказуемости поведения субъектов политики, свободное и партнерское сотрудничество различных политических сил, законно и цивилизованно добивающихся развития конституционных основ общественной и политической жизни территорий; устойчивое, регламентированное правом и традициями взаимодействие носителей государственной власти; поддержание стабильных и взаимовыгодных связей между федеральным центром и регионами.
Кроме того, как никогда злободневны противодействие сепаратистским рецидивам, терроризации граждан и общественного сознания; предупреждение конфликтов и их регулируемость в рамках правозаконной процедуры; пресечение деятельности незаконно существующих организаций, способных волюнтаристски вмешиваться в политический процесс, и обеспечение поддержки тем, кто конструктивно участвует в процессах управления; поиск стимулов гражданской активности и рациональных вариантов изменения, не оправдавших доверия общества электоральных схем, обеспечение возрастания роли и авторитета представительных и правоохранительных органов за счет повышения качества и ответственности их личного состава.
Перечисленные направления, избирательно подтверждающиеся складывающимися тенденциями5, входят в число приоритетов президентской программы, скорректированных трагическими событиями в Северной Осетии. Однако это обстоятельство не препятствует образованию противоречия между усилиями правящих групп, направленных на формирование институциональной сети участия по этой про- грамме, которая с правительственной точки зрения способна обеспечить политическое развитие населения регионов, с одной стороны, и стремлениями простых граждан к прямому политическому действию и «внятному» порядку, предоставляющим жителям материальные и политические возможности для участия в общественных процессах, — с другой. В демократическом развитии модернизация и транзит элит содержат способы примирения этого противоречия или технологии преобразования политического взаимодействия в духе сотрудничества и солидарности правительств любого уровня и граждан.
Анализ динамичного состояния региональных политических элит России на рубеже XX—XXI вв. приводит к выводу о том, что их исторически сдержанная и объективно «деформированная» форма транзита нуждается в существенных изменениях применительно к национальным интересам страны, вступившей на путь постиндустриального развития. Без этого переход внутренней политики в более активную стадию не снимет застарелого недоверия людей к государству, правящему меньшинству и тем самым «обескровит» массовую поддержку реформ, направленных на преодоление и недопущение кризисных явлений и решение многих проблем современности.
Список литературы Постсоветский опыт и современные тенденции транзита региональных элит
- Ачкасов В.А., Быстрова А.С., Даугавет А.Б., Дука А.В., Корниенко А.В. Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономические ориентации/Под. ред. А.В.Дуки. СПб., 2001. С. 28.
- Казаков М. А. Политическое лидерство: современные проблемы эволюции. Дис.. канд. полит, наук. М., 1993.
- Туровский Р.Ф. Основы и перспективы региональных политических исследований//Полис. 2001. 1. С. 148.
- Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты, транзитологические теории и посткоммунистическая Россия//Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность: Хрестоматия/Отв. ред. и сост. А.Д.Воскресенский. М., 2000. С. 365.
- Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции//Полис. 2004. № 2. С. 6-19;
- Казаков М.А. Региональные элиты в политическом процессе России: Монография. Нижний Новгород, 2004.