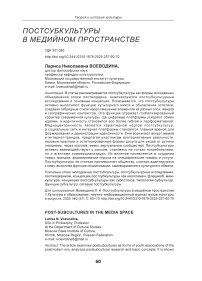Постсубкультуры в медийном пространстве
Автор: Воеводина Л.Н.
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (57), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются постсубкультуры как формы молодежных объединений эпохи постмодерна, анализируются постсубкультурные исследования и основные концепции. Показывается, что постсубкультуры активно выполняют функцию культурного микса и обновления эстетики, создавая гибридные стили через смешение элементов из разных эпох, жанров и географических контекстов. Эта функция отражает глобализированный характер современной культуры, где цифровые платформы ускоряют обмен идеями, а идентичность становится все более гибкой и перформативной. Медиацентричность является харак терной чертой постсубк ульт ур, а социальные сети и интернет-платформы становятся главной ареной для формирования и демонстрации идентичности. Они возникают вокруг мемов и интернет-трендов, предлагая участникам альтернативные реальности, игровые практики и эстетизированные формы досуга для ухода от рутины (например, через косплей, мемы, виртуальные сообщества). Постсубкультуры активно взаимодействуют с рынком, становясь не только потребителями, но и агентами коммерциализации. Их влияние проявляется в создании новых трендов, формировании спроса на специфические товары и услуги. Постсубкультуры не столько противостоят обществу, сколько адаптируются к нему, выполняя функции социализации, самовыражения и культурного обмена.
Молодежные постсубкультуры, постсубкультурные исследования, постмодернизм, концепции постсубкультуры как неоплемен, флешмоб, мемкультура, концепция постсубкультуры как субпотоков, типологии субкультур, функции субкультур, сетевые постсубкультуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144163503
IDR: 144163503 | УДК: 301.085 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-257-60-70
Текст научной статьи Постсубкультуры в медийном пространстве
Под влиянием цифровизации и глобализации в 1980–2000-х годах происходят существенные изменения форм и способов продуцирования субкультур в мире, которые приводят к появлению новых молодежных субкультурных сообществ, радикально отличающихся от прежних. Исследователи обратили внимание на то, что молодежные группы перестали быть устойчивыми и жестко организованными. В условиях креативной экономики появились новые формы идентичности, культурная принадлежность стала носить временный и эклектичный характер, что соответствовало трендам развития культуры постмодерна. Индивид мог одновременно принадлежать нескольким молодежным группам или практикам, например, слушать рэп, одеваться как эмо, и при этом увлекаться эзотерикой и видеоиграми. Стиль молодежных групп стал не столько протестом, сколько модой, брендом и индивидуальным выбором, то есть они позиционировали себя вне идеологических, классовых рамок, размывая границы между «мейнстримом» и «альтернативой».
Эти культурные и социальные изменения потребовали выработки новых научных подходов и концепций, которые бы отражали новую социокультурную реальность. На этом фоне западные исследователи выдвинули постсубкультурную парадигму как попытку критического пересмотра классических теории субкультур, прежде всего марксистско-структуралистского подхода Бирмингемской школы, которая усматривала в субкультурах протест молодежи против классового и социального неравенства, расовой дискриминации, установленного порядка вещей. В настоящее время «классических» субкультур практически не существуют: они уходят в андеграунд, трансформируются и наделяются иными смыслами [7].
Понятие «постсубкультура» было введено в научный оборот А. Чэмберсом и получило распространение в 2000 году благодаря работам Д. Ма-гглтона [18]. В 1990 году понятие «постсубкультура» использовал также С. Редхед. Основными теоретиками постсубкультуры, которые заявили о необходимости пересмотра концепта «субкультура» ввиду появления новых форм молодежной культуры и объединений, являются зарубежные исследователи С. Редхед, Р. Вайнцирль, Р. Хитцлер, М. Маффесоли, С. Торнтон, Д. Магглтон, А. Беннетт и другие.
На основе наиболее известных теоретических подходов и современных исследований (С. Редхед, Д. Магглтон, М. Маффесоли и др.) можно выделить следующие типы постсубкультур: субпотоки, неоплемена, цифровые (онлайн-ориентированные) постсубкультуры, коммерциализированные гибриды, постсубкультуры как симулякры, пародии.
Одной из значительных теорий является постсубкультурная концепция субпотоков немецкого социолога Роберта Вайнцирля [23]. Он предложил выделить два вида молодежных субкультур: исторические и современные, которые он обозначил как субпотоки. К первым он относил популярные субкультуры, функционировавшие в ХХ веке: моды, панки, готы, стиляги, скинхеды и др. Он полагал, что исторические субкультуры носили зачастую классовый характер, были своего родом формой социального протеста. Современные субпотоки не столь чувствительны к данным аспектам реальности. Если субкультуры имели постоянный характер, то субпотоки представляют собой временные, непостоянные объединения, в которых участники ценят индивидуальность и креативность больше, чем групповую сплоченность, поскольку это посттрадиционные объединения, которые соотносятся с эпохой постмодерна.
Постсубкультуры характеризует установка на развлечения и смешение стилей (например, мем-культура, вирусные челленджи в TikTok (#SeaShanty), локальные флешмобы (уличные перформансы) и др. Для субпотоков характерны флюидность (текучесть) – отсутствие четких границ, когда постсубкультуры легко смешиваются, меняются и адаптируются к новому. Субпотоки гибки и фрагментарны, они не имеют устойчивой структуры, и их участники совмещают элементы разных стилей, причем целью деятельности является творческая самореализация, развлечение и отдых. К различным видам субпотока относят клубный, рейв-поток, коллективные ролевые игры виртуального и реального коммуникативных пространств. Одним из распространенных типов игровых форм молодежного субпотока является флешмоб, который организуется участниками в определенном пространстве для выполнения одновременных коллективных действий в расчете на коммуникацию со зрителями, при этом неожиданность данного действа вызывает реакцию удивления и принятия и часто подхватывается зрителями, которые могут превращаться в участников флешмоба. Характер- ное отличие от субкультур заключается в том, что субпоток не несет в себе девиантных или делинквентных элементов [6].
Еще одной популярной интерпретацией постсубкультур является концепция неоплемен. Дэвид Мафессоли – французский социолог, один из первых в 1988 году ввел понятие неотрибализма (neotribalism) и термин «неоплемена» [17]. Он утверждал, что массовое общество, вместо того чтобы создавать массу индивидов, привело к созданию множества небольших групп – «племён» (фр. tribus). Маффессоли описывает постсовременное общество как состоящее из временных, эгалитарных, бесклассовых, «летучих», нестабильных, эмоционально связанных групп – неотриб, объединённых вкусом, стилем или настроением участников. Неоплемена характеризуются отсутствием жесткой структуры, они базируются на эмоциональной связи, а не на идеологии. Например, это фанаты K-pop, киберпанк-энтузиасты, киберготы, сочетающие готику и техноэстетику, Dark Academia-сообщества в Pinterest, объединенные любовью к классической литературе и винтажному стилю, байкеры, а также – объединения людей, которые селятся за городской чертой и живут по образцам племенной жизни традиционных племён (в США – «Psy-Tribe», «Moon-Tribe»).
Неоплемена – это новые формы социальной коллективности, которые бросают вызов привычным моделям политики и традиций. Массовое общество, вместо того чтобы создавать массу индивидуумов, привело к созданию общества, разделённого на племенные группы, общность которых основывается на сходстве образа жизни, вкусовых предпочтений, используемых модных брендах и элементах потребительской культуры.
Концепция Маффесоли о неоплеменах была поддержана и развита британским социологом Энди Беннетом в конце 90-х годов, чтобы заменить им «устаревшее» понятие субкультуры [12]. Он является одним из главных теоретиков постсубкультуры, критиком традиционных субкультурных теорий, он предложил также концепции «сцен» (scenes), «стиль жизни» («lifestyle») и «культура вкуса» («taste cultures») вместо «субкультур» [12]. Он утверждает, что молодежь больше не привязана к устойчивым группам: стиль стал индивидуализированным способом самовыражения. Молодежная культура не представляет собой что-то статичное, она очень изменчива и эклектична.
Исследовательское внимание Беннета было направлено на изучение молодежной музыки и танцевальной культуры. Он считал, что музыка, которую создают и потребляют молодые люди, влияет на их чувство самоидентификации и помогает конструировать социальный мир, в котором они определяют свою идентичность. Для обоснования этого вывода Беннет использует серию оригинальных исследований танцевальной музыки, рэпа, бхангры, рока, «белого» хип-хопа. Он подчеркивает не субкультурную, а племенную форму коллективного объединения, взаимодействия и гибкую идентичность. Танцевальные и клубные постсубкультуры довольно точно подпадают под характеристики концепции неоплемен.
Следует отметить, что существуют критически настроенные исследователи, которые упрекают постсубкультурные концепции в метафоричности и расплывчатости основных терминов – «неоплемена», «сцена» (Ж.-Ф. Госсо) и др., в специфическом и узком предмете исследования, отказе от выявлении классовых и социальных причин формирования молодежных групп (Т. Шилдрик, Р. Макдональд) [2, с. 26]. В меньшинстве остаются те, кто защищает понятие «субкультуры», продолжает изучение субкультур в классическом смысле, то есть стремятся к тому, чтобы сохранить элементы субкультурной теории и «субкультурной принадлежности, однако признают появление новых гибридных форм, особенно в Интернете.
Еще один вид молодежных объединений – это цифровые (онлайн-ориентированные) постсубкультуры, которые существуют преимущественно в Интернете (Тикток, Инстаграм, Телеграм) для создания альтернативных социальных иерархий, где авторитет определяется не возрастом, а контентом, а оффлайн-активность вторична или вообще отсутствует. По мнению З. Баумана, цифровая коммуникация усиливает неустойчивость идентичности [1]. В условиях цифровизации коммуникация становится ключевой функцией постсубкультур, трансформируя их структуру, способы взаимодействия и идентичность участников. Особенностью коммуникации в цифровых постсубкультурах являются гибридность, стирание границ между оффлайн- и онлайн-взаимодействием: например, киберпанк-сообщества сочетают реальные фестивали с виртуальными арт-проектами.
Коммуникация строится на мемах, визуальных кодах и игровом сленге, что ускоряет распространение идей, а ирония и абсурд служат инструментами сопротивления мейнстриму. Их чертами являются отсутствие серьезности, игра с образами, кратковременность – быстрое возникновение и исчезновение. Нет долгосрочных традиций, как у классических субкультур, например, байкеров или металлистов. Это, например, либертарианцы-мемологи, политические темы им служат основой для создания мемов; киберготика – виртуальная эстетика без глубокой философии готов; мягкие (soft) субкультуры (пастельные анимешники, Cottagecore).
Цифровые постсубкультуры – это пример глобального и локального взаимодействия различных культур: K-pop фэндомы адаптируют корейские музыкальные тренды под западную моду (улично-спортивный стиль с неоновыми акцентами), а также объединяют фанатов из разных стран через трансляцию концертов в виртуальной реальности, а локальные субкультуры (например, российские «ванильки») используют глобальные тренды, но добавляют национальные нарративы. Таким образом, они стирают границы между странами, создавая глобальные коммьюнити.
Цифровые постсубкультуры формируют новые формы коммуникации (мемы, стикеры, визуальные тренды) и существуют преимущественно в онлайн-пространстве, где цифровые технологии определяют их эстетику, ценности и социальные практики. Они генерируют виртуальные миры в форме видеоигр, VR-сообществ. Создается новая киберпанк-эстетика, в которой реальность замещается технологичными пространствами, заполненными мрачными визуальными образами депрессивного ночного города с неоновыми огнями. Городская среда воспринимается как враждебная человеку, создается ощущение неминуемой глобальной катастрофы. Свойствами киберпанк-эстетики выступают высокие технологии, низкий уровень жизни и цифровые антиутопии.
Цифровые платформы TikTok и Instagram ускоряют распространение гибридных эстетик: NFT-арт постсубкультура – цифровые художники продают коллажи из ретро- и футуристических элементов. Формируются Интернет-сообщества (фэндомы, Reddit-группы, TikTok-сцены) и виртуальные геймерские кланы (в Fortnite, Genshin Impact).
В отличие от панков или хиппи с их традиционными формами протеста, открытым сопротивлением и идеологической борьбой, постсубкультуры редко борются с системой напрямую. Вместо прямого конфликта с системой участники постсубкультур используют пародию, абсурд, мемы и игровые практики, чтобы выразить несогласие с социальными нормами, политикой или культурными стереотипами. Это позволяет выражать несогласие в мягкой, неконфронтационной форме.
Основные черты критики и иронии в постсубкультурах выступают в форме деконструкции авторитетов, создания игровой дистанции, меметической критики, цинизма как защитного механизма. Так, деконструкция авторитетов происходит с помощью иронии, направленной на развенчание догм, стереотипов массовой культуры и т. п. Цифровые постсубкультуры избегают прямого противостояния, предпочитая игровую дистанцию, симуляцию и гиперболизацию (например, троллинг, абсурдные флешмобы), что позволяет сохранять безопасность, оставаясь в рамках цифрового пространства. Меметическая критика осуществляется с помощью создания мемов, которые становятся инструментом коллективного осмеяния, позволяя быстро распространять сатиру без явного авторства, например, ироничные образы «ванилек» или «офисного планктона». В цифровых постсубкультурах цинизм выступает как защитный механизм.
Постсубкультуры, в отличие от классических субкультур, часто выполняют функцию эскапизма и развлечения. Эта функция особенно актуальна в условиях цифровой эпохи, где виртуальные пространства и гибридные идентичности становятся инструментами ухода от рутины и социального напряжения. Эскапизм – стремление уйти от действительности в мир иллюзий – проявляется в постсубкультурах через создание виртуальных миров, фэнтези-нарративов, увлечение аниме, косплеем, литературой в жанре фэнтези (например, вселенные «Гарри Поттера» или «Властелина Колец»), где логика чудес заменяет жесткие социальные нормы. Игровые практики выступают как способ кон- струирования новых «Я» посредством коммуникации: флешмобы, ролевые игры превращают повседневность в перформанс, игровые практики. Эскапизм является адаптивным механизмом в условиях стресса, а развлечения воспринимаются как инструмент сопротивления рутине. Постсубкультуры трансформируют развлечение в инструмент креативного самовыражения. Г. Дженкинс в книге «Конвергентная культура» отмечал, что цифровые платформы позволяют фанатам смешивать контент, создавая новые формы [16].
Фестивали, рейвы, киберпанк-вечеринки, флешмобы становятся центрами опыта формами спонтанного игрового протеста против урбанистической монотонности, где фанаты создают альтернативные социальные иерархии. Эскапизм и развлечение в постсубкультурах – это не просто бегство от реальности, а сложные стратегии адаптации к стрессам постиндустриального общества. Они сочетают игровую свободу, креативность и риски десоциализации, требуя баланса между самореализацией и сохранением социальных связей. Эскапизм в постсубкультурах может быть позитивным, снимающим стресс, развивающим креативность (например, арт-сообщества DeviantArt) и негативным: видеоигровая зависимость, уход в виртуальность как форма социальной депривации [10].
Постсубкультуры, в отличие от классических субкультур, активно взаимодействуют с рыночными механизмами, являясь не только потребителями, но и агентами коммерциализации на фоне усиления роли потребления и индивидуального выбора в современном обществе [14]. Постсубкультуры становятся «просьюмерскими», смешивая потребление и производство контента, социальные медиа создают новые формы молодежной социализации. Примерами подобных цифровых постсубкультур могут служить киберготы – виртуальные арт-коллективы, использующие AI для создания музыки и графики; аниме-додзинши: самоиздающиеся комиксы, распространяемые через Telegram-каналы; гламурные нуар-сообщества: эстетика «Dark academia» в Pinterest и Instagram.
Влияние постсубкультур проявляется в создании новых трендов, формировании нишевых рынков и интеграции в маркетинговые стратегии брендов. Коммодификация постсубкультур выражается в том, что культурные символы, которые создаются постсубкультурой, легко присваиваются индустрией моды и развлечений, стирается грань между протестом и потреблением. Коммерциализированные гибриды существуют в виде коллаборации брендов с постсубкультурными трендами, когда происходит сращивание постсубкультур с модой и маркетингом. Они практически теряют протестный потенциал и превращаются в товар (например, гранж от масс-маркетов). К таким явлениям можно отнести K-pop фэндомы как двигатели мерчандайзинга, стимпанк-аксессуары в массовой моде. Одной из первых данные процессы рассматривала Сара Торнтон в книге «Клубные культуры» (1995), когда анализировала субкультурный капитал и его коммерциализацию [21].
Постсубкультуры быстро впитываются модой, маркетингом и медиа, они создают новые ниши для бизнеса (мерч, стриминг, цифровое искусство). Постсубкультуры формируют спрос на уникальные товары (мерч, косплей-атрибутику, цифровой контент), что стимулирует развитие специализированных бизнесов. Например, K-pop фэндомы генерируют многомиллионные продажи альбомов и мерчандайза, аниме-сообщества создают спрос на стриминговые платформы (Crunchyroll) и локальные фестивали.
Среди ключевых аспектов коммерциализации постсубкультур можно назвать создание нишевых рынков и коллаборации с брендами. Компании используют эстетику постсубкультур для создания ограниченных коллекций (Nike и Off-White, Gucci и Dapper Dan). Цифровые инфлюенсеры, связанные с субкультурами, становятся амбассадорами брендов. Постсубкультуры являются частью платформенной экономики, соцсети (TikTok, Instagram) монетизируют контент постсубкультур через рекламу и партнерские программы Мем-культура генерирует прибыль для брендов через виральные челленджи (например, #SeaShanty на TikTok), а киберпанк-эстетика вдохновляет дизайн технологических продуктов (Apple, Razer).
Участники постсубкультур (художники, музыканты) монетизируют свои работы через NFT, Patreon, Bandcamp и таким образом происходит трансформация культурного капитала в финансовый. Таким образом, постсубкультуры – активные участники рынка, чьи практики переопределяют границы между культурой и коммерцией. Их влияние изучается через призму концепции культурного капитала, конвертацию культурного капитала в экономический через субкультурные практики (Бурдьё), платформенную экономику, роль фанатов в формировании рыночных трендов (Дженкинс) и гибкость потребительских практик в условиях глобализации, потребительской гибкости (Бауман).
Коммерциализация постсубкультур носит противоречивый характер, в качестве ее положительного эффекта следует назвать развитие малого бизнеса (инди-бренды, фан-арт); что касается негативных последствий, то это такие, как потеря аутентичности, эксплуатация символов субкультур корпорациями, в частности, использование гранж-стиля массовыми ритейлерами.
Еще одной концепцией постсубкультуры является представление о ней как о симулякре (Ж. Бодрийяр), пародии на классические субкультуры (например, «ванильки» – ирония над романтическими образами), использование абсурда и гипербол для деконструкции норм мемными сообществами или в ироничных течениях «нормисов» (пародия на норкор).
Постсубкультуры отражают «текучую» идентичность» (З. Бауман) и гибридизацию глобальной культуры. Их типы варьируются от временных субпотоков до цифровых сообществ, где ключевыми чертами становятся ирония, виртуализация и коммерциализация, гибридность – смешение стилей, жанров и идей из разных культур (например, К-поп в синтезе с уличной модой и киберпанком). Отсутствуют чистые формы, только ремиксы и коллажи, что свидетельствует о постмодернистском характере постсубкультур. Протест и альтернативность заявлены в мягкой форме иронии, абсурда, эклектики, например, мем-сообщества (тикток-трэндс) пародируют социальные нормы, снижая их значимость. Культурный микс и обновление эстетики присущи постсубкультуре, в ней смешиваются элементы из разных эпох и субкультур, создавая новые стили (например, «гранж-ретро», «винтажный техно»), что делает культуру более динамичной и разнообразной. С. Торнтон отмечала, что субкультурный капитал теперь строится на умении комбинировать разнородные стили [21].
Примерами обновления эстетики и гибридизации стилей могут служить киберлоки у киберготов: дреды из компьютерных кабелей и пластика как символ синтеза органического и технологичного, киберготы объединяют готическую мрачность с футуристическими технологичными акцентами (пластик, неон, микросхемы); стимпанк смешивает викторианскую эстетику с альтернативной технологической историей, создавая «ретрофутуризм» и стимпанк-моду – корсеты с шестеренками, очки-гогглы – ревизия викторианского стиля через призму научной фантастики; Dark Аcademia – смешение классической литературы (Оскар Уайльд), университетской эстетики и готических мотивов в Pinterest-образах. Присутствует заимствование из поп-культуры и нишевых жанров: эстетика Е-girl/Е-boy вбирает элементы аниме, гранжа 1990-х и мем-культуры; киберпанк-сообщества интегрируют мотивы из кино («Бегущий по лезвию»), литературы и видеоигр («Cyberpunk 2077»).
Постсубкультуры показывают временный и гибридный характер молодежных объединений, отказ от стабильной идеологической и классовой принадлежности, которые были характерны для ранних субкультур. Они отражают эпоху цифрового общества: изменчивы, ироничны и сосредоточены на самовыражении, а не на противостоянии системе. Формируется особая цифровая идентичность: индивид обозначает свое присутствие в публичной среде на платформах и сервисах с помощью гипервизуальных и гипертекстуальных средств, проявляя себя в гибридной форме. Ирония становится способом сохранить автономию без прямого столкновения. Критика и ирония в постсубкультурах – это стратегии мягкого сопротивления, позволяющие выражать несогласие без прямого конфликта. Они отражают цифровую трансформацию протеста, где мемы и пародия заменяют лозунги и баррикады.
Цифровая коммуникация превращает субкультуры в динамичные сети, где идентичность конструируется через контент, а не идеологию. Это открывает возможности для творчества, но также усиливает риски фрагментации общества. Культурный микс в постсубкультурах – это не хаотичный коллаж, а осознанная стратегия создания новых смыслов с помощью рекомбинации старых элементов. Такие практики отражают запрос на индивидуальность в условиях глобализации и цифровизации, где эстетика становится языком самоидентификации. В современном обществе массового потребления постсубкультуры оказывают влияние на рынок и выполняют функцию коммерциализации. Постсубкультуры отказываются от радикальной идеологии, в них отсутствуют жесткие политические или философские доктрины (в отличие от панков или скинхедов) и классовой интерпретация. В отличие от субкультур, которые рассматривались через призму классовой борьбы, постсубкультуры – это скорее про стиль, творчество, самовыражение. Акцент ставится на эстетике, а не на протесте.
Постсубкультуры не столько противостоят обществу, сколько адаптируются к нему, выполняя функции социализации, самовыражения и культурного обмена. Они отражают ценности поколения, выросшего в эпоху интернета: гибкость, иронию, визуальность и глобальную connected-идентичность.