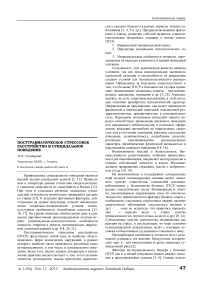Посттравматическое стрессовое расстройство и суицидальное поведение
Автор: Спадерова Н.Н.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Психиатрия. Психология. Неврология
Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140219742
IDR: 140219742
Текст статьи Посттравматическое стрессовое расстройство и суицидальное поведение
Профилактика суицидального поведения является важной медико-социальной задачей [2, 11]. Приводимые в литературе данные статистики свидетельствуют о снижение смертности от самоубийств в России [12]. При этом в отдельных регионах показатели суицидальной летальности значительно превышают средние по стране [15]. К ведущим причинным факторам, действующим на уровне популяции, относят неблагоприятные социально-экономические условия, социокультурные особенности, потребление алкоголя [13, 16, 17]. На уровне индивида значительную роль в снижении противостояния просуицидальным агентам играют индивидуально-психологические особенности личности, характер и тяжесть эмоциональных нарушений, семейный анамнез и др. [18, 20, 21].
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) представляет собой одну из наиболее «благоприятных» форм психических нарушений, в рамках которого наиболее часто выявляются различные виды аутоагрессивного, в том числе и суицидального поведения. Более того, анализ данных литературы и клиническая практика свидетельствует о том, что отдельные элементы аутоагрессии можно проследить практиче- ски у каждого больного в разные периоды течения заболевания [1, 4, 9 и др.]. Предрасполагающими факторами к такому развитию событий являются этиопато-генетические механизмы, лежащие в основе самого ПТСР:
-
1. Выраженный эмоциональный стресс.
-
2. Нарушения механизмов психологических защит.
-
3. Индивидуальные особенности личности, определяющие её высокую уязвимость в данной жизненной ситуации.
Сочетанность этих компонентов является важным условием, так как лишь индивидуальная значимость стрессовой ситуации и неспособность её разрешения создают условия для психопатологического реагирования. Наблюдения за больными свидетельствуют о том, что больные ПТСР в большинстве случаев проявляют неадаптивные механизмы защиты – вытеснение, регресс, замещение, отрицание и др. [3, 22]. Агрессия, являясь, по сути, защитным механизмом, в этой ситуации способна приобретать патологический характер. Направленная на окружающих, она может проявляться физической и вербальной агрессией, повышенной раздражительностью, придирчивостью и подозрительностью. Нарушение механизмов витальной защиты нередко способствует проявлению рискового поведения или намеренного неблагополучия в отдельных сферах жизни: вождение автомобиля на запредельных скоростях или в состоянии опьянения, рисковое сексуальное поведение, делинквентность, потребление алкоголя, различные самоповреждения несуицидального характера, пренебрежение физической активностью и нарушениями пищевого поведения [14, 18].
Возникновение мыслей о безисходности, бессмысленности существования, особенно присоединение идей самообвинения, направляет вектор агрессии в сторону собственной личности и жизни. Возникает желание прекращения страдания, мысли о добровольном уходе [10, 19].
На возникновение и поддержание суицидальных идей сильное потенцирующее влияние может оказывать чувство одиночества, социальной изоляции, наблюдаемые у большинства больных ПТСР самых разных этиологических групп. Возникающие и, обычно, высказываемые окружающим идеи об «исключительности» травматического фактора (боевого опыта у комбатантов, участников техногенных аварий, наличие смертельного заболевания, сексуального насилия и др.) – … «они не испытали, что пришлось пережить мне …» нередко ведут к утрате чувства принадлежности к группе (семья, коллеги и др.) [9, 14]. Субъективное чувство одиночества, возникающее как реакция на стресс, в последующем, по мере усиления психосоциальной дезадаптации, ведёт с изоляции человека и объективным ухудшением отношения к нему.
Преморбидные особенности личности могут резонансно усиливать эти явления. Присутствие истерических черт и / или импульсивности резко повышает суицидальный риск [2].
Факторы антисуицидального барьера у больных ПТСР как и в общей популяции играют важное значение в предупреждении суицида [5, 6]. Однако исклю- чительная выраженность, длительность и / или поли-компонентность стрессового воздействия, в сочетании с прогрессирующей социальной дезадаптацией могут снижать или практически полностью блокировать их активность. Недостаточная активность этих факторов может присутствовать у психопатических личностей, лиц с малым жизненным опытом, в том числе у детей и подростков.
С 2012 г. на базе Тюменской областной клинической психиатрической больницы функционирует Центр суицидальной превенции [7, 8]. Опыт работы с пациентами центра позволяет привести следующее клиническое наблюдение, которое достаточно ярко отражают особенности суицидальной динамики на фоне ПТСР.
Клиническое наблюдение 1.
Больная М., 14 лет, образование 7 классов. Причина осмотра и консультация: совершила суицидальную попытку через самоповешение после группового изнасилования.
Из анамнеза: росла и развивалась соответственно возрасту. Психических нарушений и отклонений поведения, суицидальных идей и поступков до настоящей травмы не проявляла. Школьную программу осваивает в полном объеме. Соматически здорова.
На момент осмотра: сознание ясное. Правильно ориентирована в месте, времени, собственной личности. На вопросы отвечает в плане заданного, по существу. В беседе предъявляет жалобы на головные боли, головокружение, слабость, ситуационно сниженный фон настроения, тревогу в связи с противоправными действиями в отношении её, наличие кошмарных сновидений, где повторяются обстоятельства правонарушения, снижение аппетита, раздражительность, вспыльчивость. В беседе тревожна, эмоционально лабильна, плаксива при воспоминании о правонарушениях, совершенных в отношении нее. Последовательно излагает анамнестические сведения. Мышление последовательное, в обычном темпе. Бредовых идей и обманов восприятия по поведению и высказываниям испытуемой выявить не удается. Фон настроения ситуационно снижен. Абстрактные понятия доступны полностью. Обобщает, выделяет главное от второстепенного. Верно объясняет переносный смысл пословиц и поговорок, крылатых выражений. Ориентирована в политической жизни страны и бытовых вопросах. Память на события личной и общественной жизни сохранна. Интеллект соответствует полученному образованию и образу жизни. Волевая активность достаточная. Критика к своему состоянию присутствует.
О преступлении, совершенном в отношении нее, сообщила следующее, что была в гостях у дяди в деревне. Знакомые девочки предложили прийти к ним в гости. Когда пришла в дом, то увидела, что подруги и ранее ей незнакомые Х. и Р. распивают спиртные напитки (коньяк), слушают музыку. Р. стал принуждать М. выпить спиртное. Она отказывалась, так как ранее спиртное не употребляла, но Р. и девочки настаивали. Выпила одну рюмку коньяка, после чего Р. приказал выпить вторую, пригрозил ей грубым голосом, что иначе посадит ее в подпол, и она будет там сидеть, пока не выпьет коньяк. Грубо схватил ее за руку. М.
выпила вторую рюмку коньяка, от чего очень сильно опьянела и последующие события не помнила. Очнулась лишь, когда находилась в бане раздетая (совершенно голая) от боли в области половых органов. Увидела, что ее "насилует" во влагалище Х. Р. стоял рядом, смотрел на то, что происходит, периодически поливал ее холодной водой. Ей было очень холодно, просила отпустить её, плакала, но Р. продолжал поливать её холодной водой. В последующем Х. и Р. совершили половые акты в ротовую полость с М., презерватив при этом не использовали. Сообщила, что прикусила половой член Р. во время орального полового акта. Х. снимал всё на камеру телефона. Все время просила у Х. и Р., чтобы они отпустили ее, что ей нет 14 лет, говорила, что её ищет дядя, но они ее не слушали. Потом голую повели домой, там одели ее и вытолкали в ворота. Ее увидели дядя и брат, вызвали милицию.
Со слов матери: после случившегося у дочери снизилось настроение, она стала вспыльчивой, раздражительной, конфликтной, в то же время более замкнутой, плохо спала по ночам, видела кошмарные сновидения, где повторялись события изнасилования, не выходила из дома, почти ни с кем не общалась, у нее отсутствовал аппетит, наблюдались головные боли, головокружение, перепады настроения, периодически появлялся жар во всем теле, стали более затрудняться коммуникативные способности. Появилась боязнь осуждения, страх, тревога, чувство незащищенности. От помощи психолога отказались. Ситуация насилия в семейном кругу не обсуждалась. Дома по рекомендации матери принимала валериану. Через 3 дня после совершенного в отношении её преступления предприняла суицидальную попытку через самопове-шение в сарае дома. Была вынята из петли отцом. Вызывалась бригада скорой помощи, но от госпитализации родители отказались.
Попытку суицида объяснила, тем, что в этот день была на допросе у следователя, проводилась очная ставка с преступниками. Они смеялись над ней, говорили, что она сама захотела "оказать им интимные услуги". Сообщили, что видеозаписи с ней "в различных позах" выложили в Интернет. Очень расстроилась по этому поводу, плакала. Пришла домой, выпила валериану, пыталась заснуть, но когда закрывала глаза, видела "смеющиеся лица насильников". Решила, что не переживет позора. Возникшие на этом фоне мысли о самоубийстве показались лучшим выходом из ситуации. Поэтому взяла пояс от халата, побежала в сарай и пыталась повеситься.
С критикой относится к совершенной суицидальной попытке. Сожалеет. Считает, что это был неправильный поступок. «Умирать не хочется, очень страшно, да и родителей жалко».
Экспериментально-психологическое обследование: на вопросы о ситуации отвечает кратко; замыкается. Оживляется, когда переключается на посторонние темы. Собственная речь грамматически и лексически правильная. Словарный запас соответствует возрастной норме. Фон настроения снижен. Эмоциональный резонанс в общении присутствует. Исследование проводилось методами: «запоминание 10 слов», «тол- кование пословиц», «классификация», методика Векслера (детский вариант), проективные методики, тест Сонди. Инструкции к заданиям усваивает с первого предъявления. Модус их выполнения удерживает на протяжении всей работы. Работает в умеренном темпе. Волевой компонент познавательной деятельности достаточный. Ориентирована на положительную оценку, стремится произвести положительное, социально приемлемое впечатление. В ситуации затруднения использует помощь психолога, исправляет свои решения. Познавательная мотивация развита достаточно. Способности к коррекции и контролирующие функции достаточные. Способна к самостоятельной целенаправленной деятельности. Исследование мыслительной деятельности показало, что испытуемой доступно проведение основных мыслительных операций. Задания выполняет с опорой на практические, конкретнозначимые и функциональные признаки. По мере усложнения заданий в ответах начинают преобладать конкретные и функциональные признаки. Уровень обобщений без выраженных нарушений. Кратковременная память сохранна: кривая запоминания 10 слов – 8,10,10, отсрочено – 9. Активное внимание достаточной концентрации. Нарушений операциональной и динамической стороны мыслительной деятельности не выявлено. В ходе исследования интеллектуального снижения не выявлено. Интеллектуальное развитие соответствует полученному образованию и образу жизни. В целом, психическое развитие М. соответствует норме ее возрастного периода. Среди личностных особенностей на первый план вышли умеренная общительность, чувствительность к критическим замечаниям и давлению среды, эмоциональная неустойчивость. Личность отличается такими характерологическими особенностями, как заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих о себе. При этом может продуцировать на оценки окружающих соответствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение). Испытывает выраженную потребность в любви, нуждается в личном внимании и признании. М. свойственны типичные для данного возраста потребности в общении (нуждается в друзьях, которые могут понять, ободрить, посочувствовать), желание быть любимой, нежность. Психосексуальная сфера испытуемой недостаточно развита, что соответствует возрасту девочки. Признаков склонности к патологической лжи или фантазированию не выявлено. Ориентировка в вопросах пола формальная, недостаточная осведомленность в вопросах сексуальных взаимоотношений в силу возраста (понимание биологического смысла половых отношений и понимание социального аспекта сексуальных отношений недостаточное). Выявляются сильное внутреннее напряжение, тревога. Присутствует защита от окружающих, в сочетании со страхом и тревогой; боязнь осуждения; при этом выявляется недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях; чувство отверженности. Отмечается страх перед будущим, депрессивные тенденции, пониженный фон настроения, чувство незащищенности, внутреннее напряжение. Выявляется определенное желание отрешиться, скрыть свое "я".
Заключение: клиническое наблюдение отражает развитие ПТСР после сексуального насилия у психически здоровой девочки-подростка, не проявляющей ранее нарушений поведения и суицидальной активности. Обращает внимание, что, несмотря на выраженность психотравмирующей ситуации, психологическая поддержка ребенку своевременно оказана не была. Отказавшись от медицинской помощи, родители не смогли поддержать её и сами, практически оставив наедине со своими переживаниями. Отсутствие личного опыта преодоления стресса, поддержки со стороны взрослых и профессиональной помощи способствовало прогрессии психопатологических расстройств. Повторное погружение на этом фоне в стрессовую ситуацию при проведении следственных действий привело быстрому формированию суицидальных идей и их реализации по механизму «избежание». В постсуицидальный период наблюдалось критическое отношение к совершенной попытке. Актуальными факторами антисуицидального барьера явились «страх смерти» и «референтная группа» (родители).
Коррекционная работа с этой пациенткой должна включать индивидуальную и семейную психотерапию. В индивидуальной работе предпочтительны методики: обесценивание травматической ситуации, поиск (или создание) личных резервов, позитивное программирование будущего.
Заключение. Предупреждение самоубийства среди лиц, страдающих ПТСР, представляет собой важную медико-социальную задачу. Выявление данного вида нарушений должно обращать вниманием врача на оценку возможного суицидального риска и проведение мер дифференцированной коррекции и профилактики суицидального поведения.
Список литературы Посттравматическое стрессовое расстройство и суицидальное поведение
- Азарных Т.Д. Суицидальные идеации и темперамент при посттравматических стрессах в юношеском возрасте//Суицидология. -2014. -Том 5, № 3. -С. 41-47.
- Амбрумова А.Г. Психология самоубийства//Социальная и клиническая психиатрия. -1996. -Том 6, № 4. -С. 14-20.
- Бакиров А.Б., Масагутов Р.М., Б.А. Бакиров и др. Посттравматическое психическое расстройство у больных гемобластозами//Медицинский вестник Башкортостана. -2007. -Том 2, № 6. -С. 48-53.
- Винокурова И.П. Факторы риска развития посттравматического стрессового расстройства//Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. -2009. -№ 35. -С. 43-48.
- Зотов П.Б. Факторы антисуицидального барьера в психотерапии суицидального поведения лиц разных возрастных групп//Суицидология. -2013. -Том 4, № 2. -С. 58-63.
- Зотов П.Б. «Жизнь после смерти» -в суицидологической практике психотерапевта//Медицинская наука и образование Урала. -2012. -№ 4. -С. 158-159.
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В. Суицидальные действия в г. Тюмени и юге Тюменской области (Западная Сибирь): динамика за 20072012 гг.//Суицидология. -2013. -Том 4, № 1. -С. 54-61.
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Уманский С.М., Кузнецов П.В. Проблемы и задачи суицидологического учета (организация регистра)//Тюменский медицинский журнал. -2011. -№ 1. -С. 10-11.
- Искандаров Р.Р., Масагутов Р.М., Мухитова И.Э. и др. Факторы риска и предикторы агрессивного поведения осуждённых мужчин с посттравматическим стрессовым расстройством//Социальная и клиническая психиатрия. -2013. -Том 23, № 2. -С. 21-28.
- Каневский В.И. Ситуация, надситуативность и парасуицид//Суицидология. -2013. -Том 4, № 1. -С. 36-42.
- Корнетов Н.А. Что является лучшей формой профилактики суицидов?//Суицидология. -2013. -Том 4, № 2. -С. 44-58.
- Любов Е.Б., Морев М.В., Фалалеева О.И. Экономическое бремя суицидов в Российской Федерации//Суицидология. -2012. -№ 3. -С. 3-10.
- Меринов А.В. Суицидологическая, экспериментально-психологическая и наркологическая характеристики супругов из браков мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, с вторично открытой семейной системой//Суицидология. -2014. -Том 5, № 4. -С. 43-51.
- Погосов А.В., Бойко Е.О., Сочивко Ю.Н. Отдаленные последствия посттравматических стрессовых расстройств у комбатантов//Кубанский научный медицинский вестник. -2011. -№ 6 (129). -С. 105-109.
- Положий Б.С., Куулар Л.Ы., Дуктен-оол С.М. Особенности суицидальной ситуации в регионах со сверхвысокой частотой самоубийств (на примере Республики Тыва)//Суицидология. -2014. -Том 5, № 1. -С. 11-18.
- Положий Б.С., Панченко Е.А., Посвянская А.Д., Фритлинский В.С. Клинические и социокультурные характеристики больных с депрессивными расстройствами, совершивших покушение на самоубийство//Суицидология. -2014. -Том 5, № 3. -С. 42-47.
- Разводовский Ю.Е. Потребление алкоголя и суициды в Беларуси и России: сравнительный анализ трендов//Суицидология. -2014. -Том 5, № 4. -С. 37-43.
- Рахимкулова А.С., Розанов В.А. Суицидальность и склонность к риску у подростков: биопсихосоциальный синтез//Суицидология. -2013. -Том 4, № 2. -С. 8-24.
- Розанов В.А., Рахимкулова А.С., Уханова А.И. Ощущение бессмысленности существования у подростков -связь с суицидальными проявлениями и психическим здоровьем//Суицидология. -2014. -Том 5, № 3. -С. 33-41.
- Суровцева А.К., Счастный Е.Д. Особенности субъективной оценки качества жизни пациентов аффективными расстройствами с различным риском суицидального поведения//Суицидология. -2014. -Том 5, № 4. -С. 52-58.
- Чистопольская К.А., Ениколопов С.Н. Психологические защиты от страха смерти у людей с разным опытом суицидального поведения//Суицидология. -2011. -№ 2. -С. 14-15.
- Эльжуркаев А.Р., Ширяев О.Ю., Махортова И.С. Исследование особенностей личности и выраженность тревожно-депрессивных нарушений у больных с посттравматическим стрессовым расстройством//Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. -2010. -№ 39