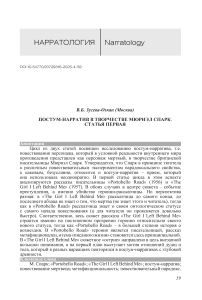Постум-нарратив в творчестве Мюриэл Спарк. Статья первая
Автор: В.Б. Зусева-Озкан
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цикл из двух статей посвящен исследованию постум-нарратива, т.е. повествования персонажа, который в условной реальности внутреннего мира произведения представлен как персонаж мертвый, в творчестве британской писательницы Мюриэл Спарк. Утверждается, что Спарк в принципе тяготела к различным повествовательным экспериментам парадоксального свойства, к каковым, безусловно, относится и постум-нарратив – прием, который она использовала неоднократно. В первой статье цикла в этом аспекте анализируются рассказы писательницы «Portobello Road» (1956) и «The Girl I Left Behind Me» (1957). В обоих случаях в центре сюжета – событие преступления, а именно убийство героини-рассказчицы. Но перспектива разная: в «The Girl I Left Behind Me» рассказчица до самого конца, до последнего абзаца не знает о том, что мертва (не знает этого и читатель), тогда как в «Portobello Road» рассказчица знает о своем онтологическом статусе с самого начала повествования (а для читателя он проясняется довольно быстро). Соответственно, весь сюжет рассказа «The Girl I Left Behind Me» строится именно на постепенном прозрении героини относительно своего нового статуса, тогда как «Portobello Road» – в большей степени история о возмездии. В «Portobello Road» героиня является писательницей, рассказ метафикционален, и тема «писания о жизни» становится здесь принципиальной. В «The Girl I Left Behind Me» сюжетное «острие» направлено в цель внезапной вспышки понимания, а на первый план выступает мотив отношений души и тела, который в разных вариациях повторялся в постум-нарративах с глубокой древности.
М. Спарк, «Portobello Road», «The Girl I Left Behind Me», постум-нарратив, повествование мертвеца, метафикциональность, повествовательный парадокс
Короткий адрес: https://sciup.org/149150080
IDR: 149150080 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-59
Текст научной статьи Постум-нарратив в творчестве Мюриэл Спарк. Статья первая
НАРРАТОЛОГИЯ
Narratology
В.Б. Зусева-Озкан (Москва)
ПОСТУМ-НАРРАТИВ В ТВОРЧЕСТВЕ МЮРИЭЛ СПАРК. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ ннотация
Цикл из двух статей посвящен исследованию постум-нарратива, т.е. повествования персонажа, который в условной реальности внутреннего мира произведения представлен как персонаж мертвый, в творчестве британской писательницы Мюриэл Спарк. Утверждается, что Спарк в принципе тяготела к различным повествовательным экспериментам парадоксального свойства, к каковым, безусловно, относится и постум-нарратив – прием, который она использовала неоднократно. В первой статье цикла в этом аспекте анализируются рассказы писательницы «Portobello Road» (1956) и «The Girl I Left Behind Me» (1957). В обоих случаях в центре сюжета – событие преступления, а именно убийство героини-рассказчицы. Но перспектива разная: в «The Girl I Left Behind Me» рассказчица до самого конца, до последнего абзаца не знает о том, что мертва (не знает этого и читатель), тогда как в «Portobello Road» рассказчица знает о своем онтологическом статусе с самого начала повествования (а для читателя он проясняется довольно быстро). Соответственно, весь сюжет рассказа «The Girl I Left Behind Me» строится именно на постепенном прозрении героини относительно своего нового статуса, тогда как «Portobello Road» – в большей степени история о возмездии. В «Portobello Road» героиня является писательницей, рассказ метафикционален, и тема «писания о жизни» становится здесь принципиальной. В «The Girl I Left Behind Me» сюжетное «острие» направлено в цель внезапной вспышки понимания, а на первый план выступает мотив отношений души и тела, который в разных вариациях повторялся в постум-нарративах с глубокой древности.
ючевые слова
М. Спарк; «Portobello Road»; «The Girl I Left Behind Me»; постум-нарратив; повествование мертвеца; метафикциональность; повествовательный парадокс.
V.B. Zuseva-Özkan (Moscow)
POSTHUMOUS NARRATION
IN THE WORKS BY MURIEL SPARK. ARTICLE 1
bstract
A
A series of two articles is devoted to the study of posthumous narration (i. e. the narration of a character who, in the conventional reality of the text, is represented as a dead person) in the works of the British writer Muriel Spark. It is argued that Spark gravitated toward various narrative experiments of a paradoxical nature, which certainly includes posthumous narration – a technique that she used repeatedly. The first article in the series analyzes her short stories “Portobello Road” (1956) and “The Girl I Left Behind Me” (1957) in this aspect. In both cases, the plot centers on a criminal event, namely the murder of the main character who is also the narrator. But the perspective is different: in “The Girl I Left Behind Me,” the narrator does not know that she is dead until the very end, until the last paragraph (nor does the reader know this), whereas in “Portobello Road,” the narrator knows about her ontological status from the very beginning of the narrative (and for the reader, it becomes clear quite quickly). Accordingly, the entire plot of “The Girl I Left Behind Me” is built precisely on the female narrator’s gradual insight into her new status, whereas “Portobello Road” is more of a story about retribution. In “Portobello Road,” the narrator is represented as a writer, the story is metafictional, and the theme of “writing about life” becomes fundamental here. In “The Girl I Left Behind Me,” the plot’s “spearhead” is aimed at the goal of a sudden flash of understanding, and the motif of the relationship between soul and body, which has been repeated in various posthumous narratives since ancient times, comes to the fore.
ey words
Muriel Spark; “Portobello Road”; “The Girl I Left Behind Me”; posthumous narration; narration from beyond the grave; metafiction; narrative paradox.
Предлагаемый цикл из двух статей посвящен т.н. «загробной наррации» в творчестве Мюриэл Спарк. Эта техника, которую мы предпочитаем называть постум-нарративом [Зусева-Озкан 2022], в последнее двадцатилетие привлекает повышенное внимание литературоведов, но до сих пор не была в достаточной степени осмыслена. Говоря о постум-нарративе в XX в., когда, собственно, она и пережила расцвет, невозможно обойти молчанием творчество британской писательницы М. Спарк. Как правило, постум-нарратив остается в творчестве тех авторов, которые обращаются к нему, единичным экспериментом. Поэтому особенно интересен случай Спарк, написавшей ряд произведений с такой нарративной ситуацией, причем в ее наследии очевидны различные варианты ее использования , а также, по нашему мнению, постепенное усложнение как самой этой техники, так и художественного задания, с которым она применяется. В первой статье цикла мы рассмотрим постум-нарративные рассказы Спарк «Portobello Road» (1956) и «The Girl I Left Behind Me» (1957), во второй статье – роман «The Hothouse by the East River» (1973). Добавим, что в отечественной науке эти произведения не исследовались в интересующем нас аспекте (и в целом сколько-нибудь серьезно), а в науке зарубежной, хотя и становились предметом рассмотрения (см., например: [Apostolou 2001; Sacido-Romero 2015]), не анализировались детально в специальных работах о загробной наррации (в монографиях Э. Беннетт [Bennett 2012] и Ф. Вейнманна [Weinmann 2018] им посвящены лишь небольшие фрагменты).
Вообще, творчество Спарк характеризуется интересом автора к различным повествовательным экспериментам парадоксального свойства – к таковым, безусловно, относится и постум-нарратив. Уже первый ее роман «Утешители» ( The Comforters, 1957) использует другой нарративный парадокс – метафикциональный. Героиня романа Каролина, писательница, слышит, как где-то работает пишущая машинка, отстукивая события ее жизни – то, что происходит с ней в данный момент: «Она сознавала, что книга, в которой она действует, все еще пишется. <…> Она оставалась в неведении о постоянном своем влиянии на развитие сюжета и мечтала, чтобы роман поскорее закончился, понимая, что ей самой повествование станет внятным лишь после того, как она наконец окажется за его рамками, одновременно будучи в нем реализованной» [Спарк 2017, 307–308].
Процитированный пассаж определяет не только метафикциональный парадокс «Утешителей», но и постум-нарративный парадокс других произведений М. Спарк: писательница ищет архимедову «точку опоры», такой рычаг за пределами «мира» произведения, который в рамках «натурального», «естественного» повествования вообще не может существовать. Подобно тому, как героиня «Утешителей» должна оказаться за рамками повествования, «одновременно будучи в нем реализованной», так в рассказе «Дом знаменитого поэта» ( The House of the Famous Poet , 1966) затруднение переживает героиня-рассказчица:
«– Я хочу настоящие похороны, – пояснила я. – Свои собственные. <…> Тогда я смогу их описать во всех деталях.
– Свои похороны? Вы хотите написать о них?
– Да» [Спарк 2012, 265–266].
Писательница регулярно стремится выйти за «естественные» пределы повествования , преодолеть границы, разрушить привычные опоры, в конечном счете – совершить трансгрессию . Отсюда, в частности, то, что обычно называют «фантастичностью», «фантасмагорией» или «абсурдом» творчества Спарк, – но категории эти весьма приблизительны. Точнее будет сказать, что в ее произведениях зачастую как само собой разумеющееся подается то, что выходит за границы «нормального», «разумного», «умопостигаемого», «конвенционального» (в какой мере это связано с католической верой писательницы и приписываемым Тертуллиану принципом «Верую, потому что абсурдно», мы оставим в стороне). Так, в другом раннем романе Спарк «Memento Mori» (1959) разгадка того, кто звонит пожилым людям с сообщениями о близкой смерти, предельно прямолинейна – и оттого еще более неожиданна: да сама Смерть и звонит. Тяга к трансгрессии объясняет и большое число «историй о призраках» (ghost stories) в творчестве Спарк; в 2003 г. был даже выпущен целый сборник ее ранее публиковавшихся рассказов под общим заглавием «Ghost Stories». К «историям о призраках» вплотную примыкают и два рассказа, в которых Спарк использует постум-нарратив: «The Portobello Road» и «The Girl I Left Behind Me».
В обоих случаях речь ведется от лица героини-рассказчицы, при этом в «Портобелло-роуд» она начинающая писательница; подобный автобиографический штрих частотен для Спарк. В обоих случаях в центре сюжета – преступление, а именно убийство рассказчицы. Однако в аспекте кругозора, или фокализации, эти тексты устроены по-разному: в «The Girl I Left Behind Me» рассказчица до самого конца, до последнего абзаца не знает о том, что мертва, и, ввиду доминанты ее точки зрения, не знает этого и читатель, тогда как в «Портобелло-роуд» рассказчица знает о своем онтологическом статусе с самого начала повествования, а для читателя он проясняется не сразу, но довольно быстро. Соответственно, весь сюжет рассказа «The Girl I Left Behind Me» строится именно на постепенном прозрении героини относительно своего нового статуса, тогда как «Портобелло-роуд» – это в немалой степени история о возмездии. Только здесь убийца оказывается наказан (да и то не буквально, а в виде сумасшествия), хотя в обоих случаях возникает мотив неупокоенности мертвеца. В «Портобелло-роуд» события охватывают довольно большой временной промежуток, причем «точкой ноль» является смерть героини – рассказывается о событиях, произошедших и до, и после нее, в течение ряда лет. В «The Girl I Left Behind Me» все события умещаются в один вечер. Установив эти общие особенности и основные моменты различия, рассмотрим оба рассказа детально и последовательно.
Рассказ «Портобелло-роуд» с помощью интервальных отступов разделен на десять главок; основанием для такого деления являются временные скачки. Первая главка – своего рода экспозиция: в ней описывается фотография четырех друзей (рассказчица, Кэтлин, Джордж и Скинни), сделанная «на заре юности и в разгар лета». Вводится сразу несколько центральных мотивов рассказа: стога сена (впоследствии такой стог окажется роковым для героини), «удачливости» рассказчицы, от которой произошло и ее прозвище Иголка (она натыкается на иголку в стогу сена, буквально материализуя пословицу; впоследствии мотив удачливости педалируется, поскольку героине всё достается легко, но, разумеется, ввиду страшной и ранней смерти рассказчицы, он напрашивается на ироническое переосмысление), а также мотив «особости» героини, ее отделенности от группы друзей («Уже несколько лет я втихомолку догадывалась, что как-то выпадаю из общей компании, а теперь, увидевши иголку, это уяснили и все остальные <…>» [Спарк 1969, 419]). Возникает и мотив нежелания героини, чтобы такой день повторился: «Ни за что не хотела бы снова так помолодеть сердцем. Это я думаю каждый раз, вороша старые бумаги и натыкаясь на фотографию» («Really I should not care to be so young of heart again. That is my thought every time I turn over my old papers and come across the photograph» [Spark 1956, 272]); «Мы очень мило выглядели, и день был редкостный, но не хотела бы я, чтобы он повторился» [Спарк 1969, 419, 420]. Это нежелание, как и сообщение о рассматривании рассказчицей своих старых бумаг, не позволяет предположить, что героиня уже не принадлежит этому миру.
Вторая главка переносит из давнего прошлого в относительное настоящее: «Как-то в субботу, уже совсем недавно, я слонялась по Портобелло-роуд <…>» [Спарк 1969, 420], т.е. по знаменитому лондонскому рынку, где она всегда любила прогуливаться. Там героиня замечает свою подругу Кэтлин, которую, как она сообщает, «не видела <…> чуть ли не пять лет», но не заговаривает с ней, сообщая эксплицитным читателям: «Как вы поймете, мне не пристало заговаривать с Кэтлин» [Спарк 1969, 420] («As you will see, I wasn’t in a position to speak to Kathleen» [Spark 1956, 274]). Рядом с ней она видит и Джорджа, который теперь был мужем Кэтлин: «<…> что-то вдруг побудило меня спокойно сказать:
– Привет, Джордж» [Спарк 1969, 421].
Джордж видит и узнает Иголку (настоящее имя рассказчицы мы так и не узнаем), причем она еще дважды произносит то же самое, а Кэтлин ее не видит и увещевает мужа: «Ты нездоров, Джордж. Боже мой, тебе, наверно, просто привиделось. <…> Нет там никакой Иголки. Ты не хуже меня знаешь, что Иголки нет в живых» [Спарк 1969, 421] («You know as well as I do, Needle is dead» [Spark 1956, 277]).
На этом ударном моменте заканчивается главка, а третья начинается с очередного хронологического скачка, когда рассказчица сообщает: «Надо вам сказать, что я рассталась с жизнью примерно пять лет назад. Но я не совсем рассталась с миром. Остались кое-какие дела <…>. Бумаги для просмотра, в том числе разорванные и выкинутые. Вообще масса занятий – не по воскресеньям, конечно, и не по присутственным праздникам, – но между делом есть с чем повозиться. Отдыхаю я в субботу утром. Если суббота выпадает сырая, то я прохаживаюсь мимо распродажи мелочей у Вулворта, как бывало в пору молодости и осязаемости. На прилавках разложены всякие милые предметы, которые я теперь замечаю и разглядываю несколько отрешенно, как это приличествует моему нынешнему положению. <…> я радовалась всему этому и раньше, а теперь, когда мне ничего не надо, радуюсь куда больше. А если в субботу ясно, я иду к Портобелло-роуд <…> Бывает и так, что на субботнее утро моя подруга Кэтлин, католичка, заказывает по мне заупокойную мессу, и тогда я, как бывало, являюсь в церковь» [Спарк 1969, 421].
Из сказанного можно сделать вывод о том, что героиня-рассказчица существует в некоем пограничном статусе. Физически она мертва уже пять лет по отношению к той временнóй точке, из которой ведется повествование, но дух ее не упокоен, и она делает то же, что привыкла делать при жизни – прогуливаться по тем же местам, радоваться тем же вещам, хотя теперь без желания ими обладать, в переводе В. Муравьева – «как это приличествует моему нынешнему положению». Но в оригинале, заметим, сказано «since it suits with my condition of life» [Spark 1956, 277]: «ведь это соответствует моему жизненному состоянию» или «моим условиям жизни». Употребляется именно слово «жизнь», т.е. мы имеем дело с древним мотивом «жизни после смерти» . Уже в «диалогах мертвых» Лукиана «жизнь мертвецов» спроецирована на жизнь посюстороннюю [Зусева-Озкан 2024]: обычаи мертвецов как бы копируют земные, хотя одновременно может вводиться мотив vanitas (суеты сует, тщетности и ненужности всего земного за гробом). В «Портобелло-роуд» подчеркивается, что мертвая рассказчица следует своим земным привычкам, хотя и с некоторыми поправками. Так, загадочно и несколько зловеще, учитывая дальнейшие события, звучит мотив «кое-каких дел» («those odd things still to be done» [Spark 1956, 277]), которые еще нужно доделать, и просмотра разорванных душеприказчиками бумаг. Создается впечатление, что рассказчица как бы «застряла» в «этом» мире, но не испытывает по этому поводу страданий; более того, хотя к финалу рассказа Джордж наказывается безумием и является в полицию с признанием в убийстве Иголки (ему там не верят), героиня никуда не «исчезает» из повествования, т.е. не ведет себя как призрак, который может наконец упокоиться. Как нет определенности по поводу особенностей загробного существования рассказчицы и наличия самого загробного мира (действие рассказа протекает исключительно в земном мире), так нет ее и в финале относительно того, что будет с ней «дальше».
Тем не менее, намекается на наличие каких-то сил, управляющих героиней – так, сообщается, что героине теперь не дано «разговаривать без наития» («I could not have spoken had I not been inspired to it» [Spark 1956, 278]), какое нашло на нее с Джорджем: «А самое странное, что этим утром, заговорив, я даже стала отчасти видимой. Наверно, бедный Джордж счел меня за привидение <…>» [Спарк 1969, 422]. Рассказчица прямо называет себя привидением («ghost»), но видимость ее имеет место только по отношению к Джорджу – как мы узнаем позднее, именно Джордж является ее убийцей. Классический мотив явления призрака убийце оттеняется тем, что рассказчица-привидение, по ее собственным словам, приветствует Джорджа «весело» и «достаточно дружелюбно»: «‘Hallo, George!’ I said again, quite loud this time, and cheerfully»; «He looked very ill, although when I had said ‘Hallo, George’ I had spoken friendly enough» [Spark 1956, 275]. Мы ни разу не услышим проклятий в сторону Джорджа, хотя само описание убийства натуралистично и вполне демонстрирует его жестокость и страдание героини, и эта «веселость» призрака лишь усиливает «странность» и зловещий характер рассказа. Кроме того, отсутствие явной мстительности героини, как и то, что ею, по-видимому, управляют высшие силы (откуда является то «наитие», «in-spiration», которое заставляет ее заговорить с Джорджем?), «рифмуются» с финалом, не обещающим упокоения и полного перехода в иной мир.
Четвертая главка открывается очередным прыжком в прошлое – но более позднее по отношению к моменту, когда Джордж сделал фотографию в стогу. Герои идут каждый в своем направлении, причем сообщается, что рассказчица собиралась быть писательницей: «<…> я собиралась писать о жизни и надо было с нею ознакомиться» [Спарк 1969, 423]. Возвращается мотив «удачливости» героини и ее способности легко идти по жизни: «По нормальным расчетам я должна была изголодаться и отчаяться, чего так и не случилось. Конечно, мне не удалось написать о жизни, как я собиралась. Может быть, поэтому мне и пишется в нынешних необычных обстоятельствах» [Спарк 1969, 423]. То есть этот рассказ является не только постум-нарративом, но еще и метанарративом : он повествует о том, как создается мертвым автором. Впрочем, тяготение двух повествовательных парадоксов к объединению очевидно уже в «диалогах мертвых» эпохи Просвещения, где сильна литературная автометарефлексия, а в полную силу реализовано в романе Машаду де Ассиза «Посмертные мемуары Браза Кубаса» в конце XIX в. [Зусева-Озкан 2025]. Интересно, что в оригинале по отношению к писательской деятельности героини Спарк в ее посмертном состоянии – деятельности успешной – употребляется то же слово «inspiration» («Of course, I did not live to write about life as I wanted to do. Possibly that is why I am inspired to do so now in these peculiar circumstances» [Spark 1956, 280]), что и по отношению к способности заговорить с Джорджем. Создаваемый ею рассказ о своем убийстве – такой же обвинительный акт, как и ее способность заговорить с убийцей.
В этой же четвертой главке, где рассказывается о путешествии Иголки по Африке, описывается встреча с Джорджем, отправившимся туда разводить табак: он жил с «темнокожей сожительницей» Матильдой, что в пятой главке станет предметом особого внимания: Иголка еще раз видится с Джорджем в Африке, и он заставляет ее выслушать свой секрет – оказывается, он по глупости женился на Матильде, а теперь хочет откупиться от нее и отправиться обратно в Англию. Пятая главка многозначительно оканчивается фразой: «Джорджа я увидела снова перед самой моей смертью, пять лет назад» [Спарк 1969, 431], – что могло бы выглядеть достаточно невинно, но создает саспенс вкупе с тем, что уже было рассказано ранее. Опять педалируется мотив везения, якобы свойственного героине: «Иногда мне до того тошно слушать, что мне везет. Бывало, украдкой пробуя писать о жизни, я понимала, чего стоит все мое везение. Когда в моих писаниях жизнь снова и снова не укладыва- лась и не изображалась, меня все больше затягивала <…> неутолимая тоска по ненаписанному» [Спарк 1969, 428]. Помимо очевидной иронической стороны мотива удачливости, о которой говорилось выше, здесь проступает еще один его аспект, работающий на метафикциональную природу рассказа: героиня, которая безуспешно пыталась стать хорошей писательницей, ощущает как раз свою «неудачливость» («the bitter side of my fortune») в этой, главной для нее, части своей жизни. Вероятно, эта неудовлетворенность ощущается ею и в послесмертии (вспомним о «ворошении бумаг», даже изорванных) и избывается самим этим рассказом, который пишется будто на наших глазах. Возможно также, что еще и поэтому мертвая героиня не выказывает явной ненависти к Джорджу – те «особые обстоятельства» («peculiar circumstances»), в которых она оказалась, вдохновляют ее на создание произведения о «жизни», какое ей не удавалось создать до переживания опыта смерти.
В шестой главке, действие которой происходит уже после войны (это «последний год» жизни героини), примерно через десять лет после описанной в пятой главке встречи с Джорджем в Африке, продолжается мотив удачи / неудачи: «Счастливица, удачница… <…> Мне неприятно было это слышать <…> Я готовилась писать по-настоящему, и мне казалось, что в этом моя судьба <…> Я вдумалась в свое везение, когда стала католичкой и прошла конфирмацию. Епископ касался щеки конфирманта, символически напоминая о страданиях, которые полагаются на долю каждого христианина. Я подумала, слава богу, вот уж как легко обойтись таким касанием вместо положенного дьявольского надругательства» [Спарк 1969, 432]. Это касание предсказывает то «адское насилие» («hellish violence», переведенное В. Муравьевым как «дьявольское надругательство»), которым закончится жизнь героини: в следующей седьмой главке трижды упоминается сходное движение Джорджа в сцене у стога сена.
Шестая главка заканчивается столь же многозначительно, как и пятая: с Джорджем, вернувшимся из Африки, рассказчица «повидалась <…> только в сентябре, перед самой своей смертью» [Спарк 1969, 434]. Саспенс нагнетается и другими способами; например, оказавшаяся в пустом доме героиня в начале седьмой главки ощущает себя призраком: «Когда я пробиралась по обитаемой части дома, раскрывала окна и впускала бледно-золотистый сентябрьский воздух, я, Иголка, не сознавала себя во плоти, я могла быть призраком» [Спарк 1969, 435] («<…> I might have been a ghost» [Spark 1956, 297]). Героиня встречает на близлежащей ферме Джорджа и произносит те же слова, какие впоследствии трижды произнесет ее призрак при встрече на Портобелло-роуд: «Привет, Джордж».
Джордж напрашивается на очередной секретный разговор, который происходит в поле, на стогу сена: действие рассказа как бы описывает круг, возвращаясь к антуражу первой главки. Речь вновь идет о тайной женитьбе Джорджа на Матильде, причем во время беседы он «взял клок сена и провел им мне по лицу» [Спарк 1969, 436], как бы повторяя жест епископа при конфирмации. Второй раз он совершает тот же жест, но более грубо, когда слышит реакцию Иголки на свое сообщение о том, что собирается жениться на Кэтлин. Когда она говорит, что это будет двоеженство, Джордж свирепеет: «Он рванул пук сена, как будто собирался ткнуть им мне в лицо, но пока что овладел собою и стал меня этим сеном пугливо обмахивать» [Спарк 1969, 437]. Героиня не соглашается с новыми приводимыми им резонами; тогда он «прижал мне ноги коленом, и я не могла двинуться. <…> Он пощекотал мне лицо соломин- кой» [Спарк 1969, 437]. Иголка предупреждает Джорджа, что будет вынуждена сообщить Кэтлин, и тогда происходит центральное, давно ожидаемое событие рассказа – Джордж буквально заставляет ее замолчать: «Он посмотрел на меня, как будто сейчас убьет, и тут же убил – он натолкал мне в рот сена, до отказа, придерживая меня коленями, чтоб я не дергалась, и зажав мои кисти своей левой ручищей. <…> Кругом не было ни души, и он захоронил мое тело в стогу: разрыл сено, чтоб получилась выемка по длине трупа <…>» [Спарк 1969, 438]. Так героиня не избегает на земле того «адского насилия», которое, казалось, заменило символическое касание епископа при конфирмации; символично, что в том эпизоде речь велась об удачливости героини – страшный конец ее жизни в очередной раз опровергает привязавшуюся к ней репутацию «удачницы».
Описание собственного убийства, последующего расследования (как правило, неудачного – ср., например, «Милые кости» Э. Сиболд или «Меня зовут Красный» О. Памука) и места убийства или могилы типично для постум-нарратива. Здесь оно приобретает особый иронический оттенок, вновь сопрягаясь с мотивом пресловутой удачливости, в частности, когда в восьмой главке рассказчица сообщает, что ее «тело искали двадцать часов, и, когда нашли, вечерние газеты сообщили: “ ‘Иголку’ нашли в стогу сена!”» – и что «Кэтлин, рассуждавшая с католической точки зрения, <…> сказала: “Она была на исповеди за день до смерти – вот счастливица!”» [Спарк 1969, 438].
Девятая главка возвращается к «настоящему» героини-рассказчицы. Мотив посмертного мщения , достаточно частотный для постум-нарратива (и для «историй о призраках»), здесь проводится завуалированно: рассказчица не сообщает о своем желании отомстить убийце. Но в самом повторении слов «весело», «дружелюбно» и пр. слышится что-то зловещее. Если первая встреча на Портобелло-роуд была случайной, то теперь рассказчица специально высматривает Джорджа и вновь окликает его той же фразой, какой окликнула при встрече на ферме в день убийства. Завуалированное желание наказать убийцу тем же страданием ощущается в сравнении: «Я подумала про себя: “Он как будто сена отведал”. На эту мысль, веселую и лиричную, как сама жизнь, наводили его жесткие усы и борода соломенного цвета, облепившие большой рот» [Спарк 1969, 440]. И действительно, Джордж лишается покоя до такой степени, что приходит в полицию для признания в убийстве, но ему там не верят и отвозят в психлечебницу. В итоге Джордж и Кэтлин эмигрируют в Канаду, чтобы «быть подальше от Портобелло-роуд», но «прежним Джорджем ему уже, конечно, не быть» [Спарк 1969, 441].
Многозначительно слово «жизнь» («life»), многократно повторенное в рассказе – в частности, в приведенном выше сравнении усов и бороды Джорджа с сеном. О своих писательских устремлениях героиня-рассказчица всегда говорит с помощью специфической конструкции «писать о жизни» («to write about life»). Причем если ранее, «при жизни», она полагала, что написать о жизни ей не удавалось потому, что ее собственная жизнь была вполне хорошей и она не знала страдания («starvation and ruin» [Spark 1956, 280]), то теперь, в своих новых обстоятельствах, она испытывает вдохновение: после смерти ей наконец удается написать о жизни и ее «адском насилии». Одновременно жизнь видится ей, как сказано выше, «веселой и лиричной» («<…> gay and lyrical as life» [Spark 1956, 305]).
Здесь ощущаются те двойственность и парадоксальность, которыми в сильной степени отмечен финал рассказа – его последняя десятая главка: «Он
[Джордж] часами разглядывает тот свой затертый снимок со стогом. <…> Мне же снимок кажется веселеньким, только я не думаю, что мы на самом деле были такие милые, как там. Мы лежим, уставившись на пшеничные поля: Скинни с ироническим видом, я надежно отделенная от остальных, Кэтлин, кокетливо подпершаяся локтем, и каждый из нас застыл отблеском земной прелести, как будто этому и конца не будет» [Спарк 1969, 441]. Здесь, с одной стороны, представлению о жизни как «веселой и лиричной» отвечает «веселенький» («jolly») снимок, а в еще большей степени – «земная прелесть», точнее, «glory of the world» – «великолепие мира»; с другой стороны, они «разъедаются» мотивом «отделенности», отличия героини от других (которое теперь понимается и так, что она мертва, а они – живы), запечатленной на снимке ложью («я не думаю, что мы на самом деле были такие милые, как там» – разумеется, учитывая, что на снимке изображены убийца и его жертва) и ощущением, что это «великолепие мира» преходяще, хрупко, таит в себе разрушение.
Финал «Портобелло-роуд» сочетает два традиционных для постум-нарратива мотива: тоски по земной жизни , неспособности освободиться от ее прелестей, и мотив vanitas vanitatem , который здесь подается не столько в виде сатиры на тщету земной суеты, сколько в виде осознания хрупкости всего того, что составляет «великолепие мира». Героиня-рассказчица дважды подчеркивает, что не желала бы вернуться в свое прежнее состояние, говоря о том дне, когда была сделана фотография, но сама настойчивость этих повторений вызывает вопрос о том, насколько она правдива; с другой стороны, нежелание вернуться может свидетельствовать об осознании того, что в погожем дне содержится зерно будущего убийства и что мирское великолепие таит в своих глубинах зло.
Рассказ «The Girl I Left Behind Me», написанный почти одновременно с «Портобелло-роуд», самим этим фактом свидетельствует о целенаправленных поисках Мюриэл Спарк в области посмертной наррации. Название рассказа в русском переводе Т. Кудрявцевой звучит как «Девушка, которую я оставил», но этот перевод неудачен (как и перевод рассказа в целом, крайне неточный), поскольку не дает представления о двойном смысле заглавия, которое на английском не дает указания на род актанта. Помимо отсылки к старинной английской песне, которую напевает убийца героини на протяжении всего рассказа, это еще и апелляция к тому, как душа покидает тело убитой девушки, и тогда эта строка воспринимается как «Девушка, которую я оставила». Таким образом, далее мы будем пользоваться собственной версией перевода заглавия, учитывающей двойственность значения: «Девушка, оставленная мною».
Этот очень компактный рассказ следовало бы назвать, скорее, новеллой, ибо его структура вполне отвечает инварианту сюжета этого канонического жанра: длинная «восходящая» сюжетная линия – пуант (резкий, неожиданный перелом) – короткая «нисходящая» сюжетная линия, которая в данном случае редуцируется до одного предложения. «Восходящая» сюжетная линия укладывается, по сути, в один час (новелла начинается с того, как героиня выходит из конторы в «ровно четверть седьмого» и завершается ее возвращением туда же в «четверть восьмого»), «нисходящая» линия – в одно мгновение.
Время действия новеллы несколько «расширяется» за счет аналепсисов (термин Ж. Женетта, означающий упоминание задним числом события, предшествующего той точке истории, где мы находимся), когда героиня размыш- ляет или припоминает нечто. Новелла строится на чередовании аналептических эпизодов и эпизодов, в которых рассказывается о настоящем моменте. Мысли рассказчицы крутятся вокруг начальника, мистера Марка Леттера. Игра слов, когда мистер Леттер просит помечать на конверте «срочно» («I thought that rather funny coming from a man named Mark Letter, and I often thought of him, in one of those moods, as Mr. Mark Letter Urgent» [Spark 1957, 70]), является своего рода параллелью к игре слов в заголовке рассказа.
Описание рассказчицей обычного поведения своего начальника напоминает симптомы маниакально-депрессивного психоза: «<…> мистер Леттер и его напевы, и внезапно налетавшее настроение устраивать бум, и его внезапные переходы в апатию, его волосы и маленькие плохие зубы – все это вызывало у меня возмущение, особенно когда его мотив грохотал у меня в голове еще долго после того, как я уходила из конторы <…>» [Спарк 2012, 332]. Сама героиня, очевидно, не осознает психическую болезнь Леттера, но испытывает к нему явную антипатию, даже подавляемый страх.
Следующий аналепсис повествует об утре того самого дня, на котором сосредоточено повествование: «Покачиваясь в автобусе, я вспомнила, каким энергичным был этим утром Марк Леттер Срочно. Он был требовательнее обычного <…>»; «<…> целый час <…> он расхаживал по конторе, насвистывая сквозь свои нездоровые бурые зубы песенку моряков “Девушка, которую я оставил”. Меня качнуло вместе с автобусом <…>» [Спарк 2012, 334]. Тревожные детали все увеличиваются в числе, но, хотя и бессознательно подмечаются героиней-рассказчицей, остаются не осмысленными: здесь и очередная маниакальная фаза, нарастающее беспокойство героя, в свою очередь, выбивающее из колеи героиню, и тревожные повторы песенки, и даже неожиданный рывок автобуса, совпавший со звуком песенки в воспоминаниях героини («I lurched with the bus <…>» [Spark 1957, 70]). Заканчивается этот аналепсис упоминанием о галстуке мистера Леттера: «В тот день, войдя к нему в комнату, я обнаружила его смотрящим на галстук. Он смотрел на него, раскрыв рот, <…> и насвистывал свою мелодию» [Спарк 2012, 335].
Следующий аналепсис сообщает, что Марк Леттер, по мнению героини, в свои сорок шесть лет не имел семьи; она вспоминает, что «мистер Леттер явился к чаю, по-прежнему держа в руке висевший галстук, из рубашки с открытым воротом торчала его белая шея, а сквозь зубы звучала его “Тидл-ум-тум-тум”» [Спарк 2012, 336]. Наконец, последний аналепсис, когда героиня, едва зайдя домой, едет обратно в контору, приоткрывает еще одну деталь того, как прошел этот день: «Я опасалась увидеть мистера Леттера в конторе стоящим – как я в последний раз видела его – возле моего стола, раскачивая галстук в руке» [Спарк 2012, 337] («I was rather apprehensive that I would find Mr. Letter standing just as I had last seen him, swinging his tie in his hand, beside my desk» [Spark 1957, 72]).
Обратимся теперь к плану условного настоящего новеллы, в котором героиня едет в автобусе домой, а потом, гонимая внутренним беспокойством, возвращается в контору. Здесь обращает на себя внимание ряд мотивов. В первую очередь, это мотив болезни героини, которая упоминается дважды [Спарк 2012, 332, 336], а также усталости, бессилия : «Я стояла в очереди на автобус, устав <…>», «Я думала было вернуться, несмотря на усталость <…>», «Я казалась себе ужасно старой для своих двадцати двух лет <…>», «Я просто не в силах была подняться к себе в комнату<…> Я присела на стул в коридоре, собираясь с силами», «<…> я открыла дверь и выскользнула из дома, усталая, с трудом шагая в обратном направлении <…>» [Спарк 2012, 332, 333, 334, 336].
Другой важный мотив – ощущение героиней своей невидимости для окружающих, даже бесплотности , которое постепенно нарастает: «Все смотрели сквозь меня и даже, казалось, шагали сквозь меня»; «Я наступила на ногу мужчине и сказала: “Ох, извините”. Но он, не ответив, отвел взгляд, что тягостно подействовало на меня»; «Я <…> подумала, что я, видно, просто не существую, коль скоро кондуктор в спешке прошел мимо меня»; «Я поняла, что снова не заплатила за проезд» [Спарк 2012, 333, 335, 337].
Все мотивы аналепсисов (неспособность героини припомнить в точности события дня, странное поведение мистера Леттера, его маниакально-депрессивный психоз, галстук, на котором внимание фокусируется как на значимой детали и последнее воспоминание рассказчицы о том, что начальник стоял с ним в руках у ее стола) и условного настоящего повествования (болезнь и усталость, невидимость для окружающих, тревога, ощущение незавершенности), скрепляемые лейтмотивом заглавной песни, как бы складываются в единую мозаику в последнем абзаце рассказа: «Я отперла дверь, и огорчение сразу покинуло меня. Я так обрадовалась, когда поняла, чтó я оставила там – свое тело, лежавшее задушенным на полу. Я кинулась к нему и стала целовать, как возлюбленного» [Спарк 2012, 337] («I opened the door and my sadness left me at once. With a strange joy I recognized what it was I had left behind me – my own body lying strangled on the floor. I ran toward my body and embraced it like a lov-er» [Spark 1957, 72]).
Основное, казалось бы, событие рассказа, в отличие от «Портобелло-роуд», остается не проговоренным: читатель сам восстанавливает картину убийства. Более того, благодаря этому эллипсису (умолчанию), статус основного события получает не убийство, а осознание героиней своего онтологического статуса . Видимо, создание пуанта, состоящего в этой мгновенной вспышке понимания – как нарратора, так и читателя, – и составляло художественное задание М. Спарк в этой новелле; отсюда и ее компактность, и, в общем, отсутствие мотива для убийства, каким в «Портобелло-роуд» была готовность рассказчицы выдать Кэтлин секрет Джорджа. Автор делает мистера Леттера психически неустойчивым, больным человеком, а судьбу, постигшую героиню (которая тоже погибает от удушения), – тем более жестокой и рационально непостижимой. Но, как и в «Портобелло-роуд», парадоксален финал «Девушки, оставленной мною»: осознание случившегося приносит героине «странную радость», облегчение.
В отличие от мотива посмертного мщения , важного для предшествующего рассказа, в этой новелле на первый план выступает мотив отношений души и тела , который в разных вариациях повторялся в постум-нарративах с глубокой древности. Здесь он решается в совокупности с мотивом неспособности расстаться с земной жизнью, которая персонифицируется в теле героини: душа героини обнимает ее собственное тело, как обнимаются любовники.
Разъединенность ее души и тела после убийства, которая героиней ощущалась как «незавершенность», описывается через лексему «incompletion» (антоним, «completion», типичен в английском языке для описания любовного акта).
Но сам тон странной веселости роднит «Девушку, оставленную мною» с «Портобелло-роуд», где рассказчица находит в своем положении некие радости – прежде всего, способность «писать о жизни», чего ей не удавалось раньше. Тот факт, что в «Портобелло-роуд» героиня является писательницей, а рассказ метафикционален, непосредственно влияет на развитие сюжета и отбор событий; здесь, поскольку героиня писательницей не является, сюжетное «острие» летит в цель внезапной вспышки понимания. Это свойство, скорее, не эпических текстов, а текстов лирических; в качестве типологического аналога назовем стихотворение Н.С. Гумилева «Сонет» («Я, верно, болен: на сердце туман…», 1912), схожим образом построенное на намеках для читателя, которые одновременно являются загадками для самого лирического субъекта, силящегося распознать собственное состояние (ему «скучно все», он «молчит и томится», «обуян веяньем заразы» – ср. те же мотивы болезни, усталости, томления, ожидания чего-то). При этом он как бы видит сон об окровавленном ятагане (ср. воспоминание о галстуке – орудии убийства), а последняя строка знаменует ту же вспышку понимания: «Мы дрались там… Ах, да! я был убит». По-видимому, новелла Спарк потому так и компактна, что вспышку понимания, осознания мертвым героем своего онтологического статуса трудно «растянуть» на целый роман – она требует относительно малой формы. Тем не менее, в своих дальнейших экспериментах с постум-нарративом Спарк именно этой цели и достигает. Этому будет посвящена вторая статья цикла.