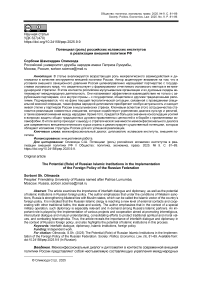Потенциал (роль) российских исламских институтов в реализации внешней политики РФ
Автор: Олимзода С.Ш.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется возрастающая роль межрелигиозного взаимодействия и дипломатии в качестве инструмента внешней политики России. Автор акцентирует внимание на том, что в условиях внешнего санкционного давления Россия целенаправленно наращивает партнерство с государствами исламского мира, что свидетельствует о формировании отчетливого исламского вектора в ее международной стратегии. В этом контексте российские мусульманские организации и их духовные лидеры активизируют международную деятельность. Они налаживают эффективное взаимодействие не только с зарубежными партнерами, но и внутри страны – с государством, обществом и другими традиционными религиями. Подчеркивается, что на фоне текущей геополитической ситуации, связанной с проведением специальной военной операции, такая форма народной дипломатии приобретает особую актуальность и находит живой отклик у партнеров России в мусульманских странах. Ключевым аспектом этого сотрудничества становится реализация совместных инициатив, которые содействуют укреплению диалога культур и религий, а также взаимопонимания между народами. Кроме того, придается большое значение консолидации усилий в вопросах защиты общих традиционных духовно-нравственных ценностей и в борьбе с проявлениями исламофобии. В итоге автор приходит к выводу о стратегической значимости межконфессионального диалога для современного внешнеполитического курса страны и демонстрирует существенный потенциал, которым обладают исламские структуры России для его успешной реализации.
Межконфессиональный диалог, дипломатия, исламские институты, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149099
IDR: 149149099 | УДК: 327(470) | DOI: 10.24158/pep.2025.9.9
Текст научной статьи Потенциал (роль) российских исламских институтов в реализации внешней политики РФ
связей и культуры взаимопонимания, терпимости и сотрудничества. Важность продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога подчеркивается необходимостью гармоничного сосуществования различных конфессий и этнокультур, что неизбежно связано с обеспечением безопасности, предупреждением конфликтов и формированием положительного образа России на международной арене. При этом задача заключается не только в обмене мнениями между политическими и дипломатическими структурами, но и в расширении контактов на более глубоких уровнях – гуманитарных, образовательных, общественных и духовных.
Именно здесь особенно проявляется потенциал российских мусульман, которые могут выступать своеобразным мостом между Россией и исламским миром, обладая уникальным культурным опытом и способностью учитывать тонкости общественного мнения, традиций и духовных ценностей стран Востока. Такая специфика помогает точнее прогнозировать тенденции в мусульманских государствах, что крайне важно для эффективного выстраивания долгосрочных стратегических отношений с ними, а также для более тонкой настройки внешнеполитического курса России в духе сотрудничества.
Особая роль исламских институтов проявляется и в том, что они уже давно служат авторитетными проводниками религиозных и культурных традиций, обладают мощным образовательным ресурсом, влияющим на просвещение молодежи и ее защиту от радикальных догматов, способных обострить экстремистские настроения. Отсутствие грамотной духовной просветительской работы нередко приводит к социальному напряжению, а потому российские мусульманские организации могут содействовать не только профилактике радикализации, но и укреплению позитивного имиджа страны, демонстрируя искреннюю заинтересованность в мирном сосуществовании и готовность к совместному решению проблем.
Вместе с тем внимание к межконфессиональному и межкультурному измерению позволяет России формировать более гибкую и гуманистическую внешнеполитическую ценностную платформу, опирающуюся на принципы уважения и диалога. Достижение этой цели требует не только усилий со стороны государственных структур, но и активизации общественной дипломатии, предполагающей обмен опытом и знаниями, организацию совместных проектов лингафонного, культурного, образовательного и духовного характера. Подобные инициативы позволяют выходить за узкие рамки официальных встреч и переговоров, способствуя установлению доверия между людьми и сообществами, что играет немаловажную роль в долгосрочной перспективе.
В этом процессе российские мусульмане выступают в качестве компетентных медиаторов, понимающих реалии обоих миров, обладающих способностью грамотно интерпретировать традиционные ценности, а также предупреждать возможные искажения в их восприятии. Задействование потенциала этих институтов дает возможность устанавливать партнерские связи, основанные на совместном стремлении к миру, социальной справедливости и равноправию. Кроме того, при прогнозировании процессов в мусульманских странах значимыми становятся учет национальных интересов России и анализ тех механизмов, которые могут содействовать сближению позиций, снижению напряженности и усилению экономического и культурного взаимодействия.
Ярким примером конструктивного подхода может служить реализация международных гуманитарных проектов, включающих обмен студентами, стажировки, научно-образовательные программы и культурные фестивали, которые напрямую вовлекают исламские и светские институты, способствуя формированию положительного и уважительного отношения друг к другу. Отдельного внимания заслуживает необходимость противодействия пропаганде агрессивных и невежественных представлений о религии. Восприятие ислама исключительно сквозь призму его радикальных и экстремистских проявлений приводит к деформации подлинных основ вероучения и способствует укоренению деструктивных стереотипов. В долгосрочной перспективе такой подход неизбежно становится катализатором социальной напряженности и антагонизма. Системное взаимодействие государственных институтов, религиозных объединений и структур гражданского общества, выстроенное по сетевому принципу, способно служить фундаментом для упрочения общественной стабильности, содействовать конструктивному разрешению возникающих противоречий и формировать благоприятные условия для развития внешнеполитических связей.
В связи с этим всесторонний анализ проблематики межконфессионального диалога и дипломатии, а также изучение конструктивного потенциала исламских институтов во внешней политике России позволяют составить объективное представление о факторах, определяющих характер отношений страны с исламским миром, и выявить приоритетные векторы для последующего сотрудничества (Dannreuther, 2012). Накопленный отечественными мусульманскими организациями опыт, их умение тонко улавливать динамику настроений в исламском мире и встраивать это понимание в общие контуры внешнеполитической стратегии, прогнозируя и упреждая потенциальные риски, создают возможности для углубления взаимного доверия и диверсификации партнерства между Россией и государствами с преимущественно мусульманским населением.
Перечисленные факторы в совокупности подчеркивают исключительную ценность межрелигиозной и межкультурной коммуникации для поддержания глобальной безопасности, обеспечения устойчивого развития и гармоничного общежития различных народов и вероисповеданий, что и определяет сущность и актуальность выбранного направления исследований. Научная новизна заключается в комплексном подходе и обосновании статуса исламской дипломатии России как самостоятельного направления внешней политики, что позволяет преодолеть ее традиционное рассмотрение лишь в качестве инструмента «мягкой силы».
Во-первых, нами предложена и обоснована функционально-географическая типология исламского вектора российской внешней политики, согласно которой выделяются три ключевых направления с различной инструментальной нагрузкой: ближневосточное (стратегическое партнерство), центральноазиатское (превентивно-стабилизирующее) и юго-восточное (инновационнодиверсификационное).
Во-вторых, в научный оборот вводится тезис о стратегической перспективности индонезийского и малайзийского направлений, которые до сих пор оставались на периферии отечественных исследований. Показано, что именно этот вектор позволяет России перейти от реактивной дипломатии к проактивному формированию партнерств на основе общности подходов к моделям умеренного ислама и многополярного мироустройства.
В-третьих, обосновывается необходимость перехода от общей гуманитарной повестки к формированию специализированных треков сотрудничества (цифровой дипломатии, этике искусственного интеллекта, экологической теологии), что отражает новый взгляд на прагматизацию и интеллектуализацию религиозного фактора во внешней политике.
Результаты исследований и их обсуждение . Взаимодействие между религиозными течениями представляет собой не спонтанное явление, а сознательно выстраиваемое сотрудничество, нацеленное на глубокое постижение позиций друг друга, выработку единых подходов и объединение усилий для ответа на насущные вызовы современности. Глубинный смысл подобного диалога состоит не в преодолении вероучительных различий, а в обращении к универсальным гуманистическим устоям. Основой для него служат фундаментальные этические принципы, разделяемые всеми участниками: признание достоинства человека, стремление к справедливости и укрепление мира (Russia’s Islam…, 2018). Вместе с тем анализ межконфессионального диалога требует выхода за рамки его исключительно инструментального понимания и обращения к его внутренней проблематике.
Во-первых, существует фундаментальная проблема репрезентативности: институты, участвующие в диалоге, не всегда отражают весь спектр мнений внутри своих конфессий. Официальные духовные управления и организации, выступая в качестве уполномоченных акторов, могут оставлять за скобками позиции независимых общин, консервативных или модернистских течений, что порождает диалог элит, не всегда транслируемый на уровень рядовых верующих. Во-вторых, нельзя игнорировать риск инструментализации диалога со стороны государства, когда религиозные институты рассматриваются преимущественно как каналы трансляции внешнеполитической повестки, что может подрывать их авторитет как внутри страны, так и за рубежом (Игнатенко, 2004: 62). В-третьих, существенным барьером выступают герменевтические и доктринальные расхождения, которые хотя и не являются предметом преодоления, имплицитно создают асимметрию в понимании ключевых этических и социальных концепций (например, справедливости, прав человека, природы светской власти). Игнорирование этих сложностей ведет к упрощенному взгляду на диалог как на беспроблемный процесс, в то время как его подлинная эффективность зависит от осознания и проработки указанных вызовов.
Ведущая роль в этом процессе принадлежит организованным религиозным институтам. Именно они, выступая от имени последователей, способны формировать пространство для консенсуса, планомерно работая над преодолением стереотипов и разрешением противоречий, возникающих на почве недостаточного знания о духовном и культурном наследии друг друга. Такая деятельность находит практическое выражение в организации общих форумов, на которых обсуждаются вопросы общественной морали, гражданской ответственности и этических основ жизни. Конечной целью этого сложного процесса является достижение общественного созвучия – состояния, при котором каждая религиозная традиция, не утрачивая уникальности и вероучительной самобытности, вносит вклад в общую стратегию, направленную на созидание стабильного и процветающего социума.
С 2005 г., когда по решению президента Российской Федерации Владимира Путина Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, появилась уникальная возможность для укрепления связей с одним из самых масштабных и авторитетных объединений государств мусульманского мира (Косач, 2020: 104). В рамках внешней политики нашей страны приоритетным направлением выступает расширение взаимовыгодных контактов с этими странами во многих сферах, включая торговлю, инвестиции, культуру и гуманитарное взаимодействие. Данный вектор сотрудничества находит подтверждение в развитии отношений с Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран, где отмечается значительный прогресс в области экономического партнерства и реализации совместных проектов (Примаков, 2012: 103).
Немаловажную роль в упрочении диалога и взаимопонимания играет Группа стратегического видения «Россия – исламский мир», которая служит объединяющим фактором для представителей разных государств, экспертов и общественных деятелей, формируя площадку для обмена мнениями, выстраивания долгосрочных партнерств и поиска совместных решений. Благодаря этой работе удается обеспечивать гармоничное сосуществование интересов региональных и глобальных игроков, а также укреплять доверие между народами, чьи общие инициативы позволяют совершенствовать экономические механизмы, развивать культурные программы и добиваться прогресса в совместных гуманитарных проектах.
Потенциал исламских институтов в российской внешней политике во многом обусловлен широтой контактов и взаимными интересами, которые объединяют Россию и страны исламского мира. В Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) прямо назван исламским миром, а государства этой части планеты определяются как «государства дружественной исламской цивилизации»1. Подобные формулировки отражают не только исторически сложившиеся связи, но и современный прагматический подход к сотрудничеству, нацеленному на повышение взаимного доверия, открытие новых возможностей в экономической, дипломатической и культурной сферах, а также на совместную работу по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Расширение экономических связей с исламскими странами способно усилить диверсификацию российского экспорта, особенно в контексте несырьевых и высокотехнологичных товаров. Многие государства исламского мира проявляют интерес к закупке конкурентоспособного оборудования, продукции агропромышленного комплекса, а также сотрудничеству в сфере цифровых технологий (Малашенко, 2022). Инвестиционные проекты, реализуемые в формате партнерства с ближневосточными инвесторами, выводят на более высокий уровень использование богатых природных ресурсов и совместное освоение перспективных логистических маршрутов (Спартак, 2023). Это, в свою очередь, укрепляет фундамент долгосрочных связей, стимулирует обмен опытом и обеспечивает стабильный диалог между экономическими агентами. В результате создаются прямые каналы для развития крупнейших инфраструктурных инициатив, нацеленных на взаимную выгоду, и закладывается прочная база для крупных совместных предприятий, ориентированных на опережающие темпы развития (Лабазанова и др., 2022).
Анализ позволяет утверждать, что редукция исламского вектора исключительно к региону Ближнего Востока и Северной Африки является существенным упрощением, не отражающим многомерность современной российской дипломатии. По нашему мнению, для адекватной оценки потенциала исламских институтов целесообразно выделить два других, функционально отличных, стратегических направления, где их роль раскрывается в ином ключе (Russian foreign policy…, 2007).
Во-первых, это Центральная Азия (ЦА) – пространство исторической, культурной и цивилизационной общности с Россией. Взаимодействие с исламскими структурами стран региона (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии) носит преимущественно превентивный и стабилизирующий характер (Hunter, 2004: 101). Оно направлено на совместное противодействие распространению радикальных идеологий, обмен опытом в сфере религиозного образования и просвещения, а также на работу с многочисленными трудовыми мигрантами в РФ. В данном контексте российские муфтияты и исламские университеты выступают не столько инструментами «мягкой силы» вовне, сколько партнерами в обеспечении общей региональной безопасности и гармонизации межэтнических отношений внутри Евразийского экономического союза и СНГ (Малашенко, 2006: 710).
Во-вторых, это страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Малайзия и Индонезия. Данный вектор является относительно новым и наиболее перспективным с точки зрения диверсификации внешних связей. В отличие от взаимодействия с БВСА и ЦА на этом направлении у России отсутствуют обременения, связанные со сложным историческим наследием, что позволяет выстраивать отношения на новой основе, опираясь на взаимный экономический интерес и совпадение позиций по принципам многополярного мира. Именно на этом направлении религиозная дипломатия может стать уникальным инструментом для углубления стратегического партнерства, выходящего за рамки традиционной торговли и военно-технического сотрудничества.
Особого внимания заслуживает проблематика взаимодействия российских исламских институтов с партнерами из Индонезии и Малайзии, которая практически не освещена в отечественной научной литературе, что открывает широкое поле для исследований. Индонезия, являясь крупнейшей по численности мусульман страной мира и активным участником G20, демонстрирует возрастающий интерес к стратегическому сближению с Россией. Показателен тот факт, что избранный в 2024 г. президент Индонезии Прабово Субианто совершил один из своих первых зарубежных визитов именно в Москву1, что подчеркивает высокий уровень политического диалога. На этом фоне потенциал религиозной дипломатии может быть реализован по нескольким ключевым направлениям, формируя новые векторы интенсификации сотрудничества.
-
1. Сфера исламского образования и науки . Российские исламские вузы (например, Болгарская исламская академия, Московский исламский институт) могут инициировать программы академического обмена, совместные научные проекты и стажировки с ведущими исламскими университетами Индонезии (UIN Syarif Hidayatullah в Джакарте) и Малайзии (Международный исламский университет Малайзии). Предметом совместных исследований может стать сравнительный анализ моделей умеренного, государственно ориентированного ислама (концепция «Ислам Нусантара» в Индонезии и российский опыт) как альтернативы транснациональным радикальным течениям.
-
2. Индустрия халяль . Если в статье упоминается разработка российского стандарта ха-ляль2, то новым вектором должно стать не просто стремление к выходу на рынки, а институциональное партнерство с Малайзией и Индонезией, которые являются мировыми лидерами в области сертификации и развития халяльной экономики. Создание совместных центров по сертификации, гармонизация стандартов и обмен технологиями в области банкинга и финансов способны вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень, далеко за пределы простого экспорта продовольствия (Осадчев, 2023).
-
3. Межцивилизационный диалог . Индонезия с ее государственной идеологией «панча-сила», основанной на единстве в многообразии, и Малайзия с ее опытом управления многоконфессиональным обществом являются для России естественными союзниками в продвижении на международных площадках (ООН, ОИС) повестки мирного сосуществования религий и культур. Совместные форумы, конференции и молодежные лагеря, организованные при участии духовных управлений мусульман России и соответствующих ведомств Индонезии и Малайзии, могут стать эффективным инструментом «мягкой силы», демонстрирующим общность подходов к защите традиционных ценностей в противовес агрессивной секулярной глобализации.
Таким образом, развитие сотрудничества на индонезийском и малайзийском направлениях позволяет не только диверсифицировать исламский вектор российской внешней политики, но и наполнить его инновационным содержанием, отвечающим вызовам XXI в. и способствующим укреплению позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Важной площадкой взаимодействия государств на высшем уровне является общественная дипломатия, получающая все большее значение. Налаженные контакты между парламентариями, правительственными представителями и региональными лидерами формируют благоприятную атмосферу для углубления контактов между разными слоями общества. Регулярные визиты официальных лиц, проведение двусторонних форумов и конференций способствуют тому, что информация о дружественных инициативах и проектах быстрее находит отклик в общественном восприятии. Это возрастающее понимание не ограничивается существующими связями, а стимулирует поиск новых форматов в гуманитарной области, здравоохранении, образовании и научных исследованиях.
Не менее значимым направлением становится продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога, базирующегося на взаимоуважении и стремлении к защите ценностей, лежащих в основе обеих духовных традиций. В современном мире религиозная сфера выходит за рамки простой богословской дискуссии и находит отражение в правовом поле, общественной жизни, образовании, средствах массовой информации (Наумкин, 2009). Совместные проекты российских и исламских организаций, будь то культурные фестивали, конференции по вопросам веротерпимости или образовательные программы, показывают способность разных культур влиять друг на друга в позитивном ключе и вырабатывать общее видение будущего.
В целом перспективы взаимодействия России с исламским миром могут быть оценены как значительные. Важную роль здесь играют институты, способные объединять весь спектр экономических, дипломатических и социокультурных ресурсов. Рассматривая страны Ближнего Востока и Северной Африки как государства дружественной исламской цивилизации, Москва подчеркивает готовность к активному сотрудничеству на равных основаниях, что предполагает дальнейшее укрепление диалога не только на уровне официальных структур, но и в сфере общественных организаций, научных кругов и религиозных лидеров. Все это закладывает основу для комплексных инициатив, в которых сочетаются выгоды от внешнеполитического партнерства, возможности экономического роста и духовное, культурное взаимопонимание, без которого невозможно формирование по-настоящему стабильного миропорядка.
Взаимодействие России с государствами исламского мира в последние годы характеризуется последовательным углублением и выходом на новый качественный уровень. Данное сближение разворачивается в контексте глобальной трансформации, на фоне которой многие развивающиеся страны, в том числе мусульманские, все активнее оспаривают справедливость сложившейся системы международных отношений, где доминируют традиционные центры силы. В Российской Федерации эти государства видят значимого партнера, готового содействовать построению более сбалансированного и многополярного миропорядка. Речь идет о модели, исключающей навязывание политических и экономических решений узкой группой стран во главе с США и ЕС (Russian foreign policy…, 2007).
Особое внимание в рамках партнерства уделяется вопросам экономического взаимодействия, поскольку укрепление взаимной торговли способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует развитие различных отраслей – от сельского хозяйства до высоких технологий. За последние 3 года товарооборот между Россией и странами Организации исламского сотрудничества увеличился на 37 % и приблизился к отметке в 156 млрд долл.1 Данный показатель свидетельствует о значительной динамике, поскольку ранее рынки многих мусульманских стран были преимущественно ориентированы на западных поставщиков продовольствия и технологий. При этом российский экспорт уже не ограничивается энергоресурсами, металлами и другими природными ископаемыми. Большую часть экспорта теперь составляют техника, оборудование, а также продукты питания, что говорит об увеличивающемся разнообразии предложений из России и о стремлении Москвы уйти от сырьевой зависимости. Разработанный в 2023 г. собственный российский стандарт халяль призван еще больше упростить доступ к рынкам мусульманских стран, делая российскую продукцию более конкурентоспособной на фоне спроса на сертифицированные по нормам ислама товары. Стремление российского бизнеса закрепиться на мировом рынке халяльной продукции является прямым ответом на высокий спрос в странах Азии и Африки, где соответствующие культурные и потребительские традиции имеют глубокие корни. Отечественные компании видят в этом секторе потенциал для развития и активно работают над освоением данной ниши.
В то же время взаимодействие России с исламским миром выходит далеко за рамки торговых отношений, развиваясь также в политической и инфраструктурной плоскостях. Политический диалог сфокусирован на выработке совместных подходов к обеспечению безопасности и противодействию экстремистским угрозам. Одновременно прорабатывается участие в масштабных проектах, направленных на улучшение логистических цепочек и транспортной связанности.
Центральным элементом этих усилий выступает международный транспортный коридор «Север – Юг», стратегическая цель которого – создание сквозного маршрута, соединяющего Россию со странами Персидского залива, Азии и Африки. Данная инициатива опирается на комплексную модернизацию железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры, что в перспективе должно кардинально сократить как финансовые, так и временные издержки при транспортировке грузов (Малышева, 2024). Участие в строительстве и развитии этого коридора внушает уверенность бизнесу и властям обеих сторон в том, что совместные проекты могут выйти далеко за пределы сырьевой сферы и способствовать формированию нового глобального логистического ландшафта.
Межконфессиональный диалог и дипломатия сегодня занимают одно из центральных мест в системе международных отношений, поскольку от их успешного развития зависят мир и стабильность в глобальном масштабе. Согласование ценностей, взаимное уважение культур и национальных традиций, а также выработка единых подходов к защите прав и свобод человека являются неотъемлемой частью такого диалога. Особенно важно, что механизмы, позволяющие координировать усилия государств в сфере прав человека, должны учитывать специфику и традиции конкретных сообществ. Межрелигиозное взаимодействие, таким образом, не только выступает в качестве морального ориентира, но и оказывает существенное практическое влияние на создание и совершенствование международно-правовых норм. Когда представители разных религий находят общее понимание того, как должны соблюдаться права верующих и нерелигиозных граждан, это укрепляет и международные институты, и национальные правовые системы (Сюкияйнен, 2008).
Особую роль в российской внешней политике играет сотрудничество с исламским миром. Исторически Россия была многонациональным и многоконфессиональным государством, где на протяжении веков взаимодействовали различные религии (Малашенко, 2010). В условиях современных вызовов международных отношений исламские институты могут стать важным связующим звеном, способствующим укреплению «мягкой силы» России и расширению ее дипломатического присутствия на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах, где ислам является доминирующей религией.
Однако на пути развития межконфессионального диалога и укрепления сотрудничества России с исламским миром существуют и проблемы. К внешним вызовам можно отнести исламо- и ксенофобские настроения, распространяемые в ряде западных СМИ, что формирует негативный образ мусульманских сообществ. Такие тенденции препятствуют эффективному партнерству, усложняют деловые и общественные контакты, а также провоцируют усиление недоверия. При этом внутри самой страны сохраняются трудности переходного периода, связанные с миграцией и безработицей. Вследствие таких социально-экономических проблем в обществе может возрастать взаимная подозрительность, особенно между теми, кто приехал в поисках работы, и местным населением. Дополнительную сложность создает отсутствие четкого, системного подхода в государственной политике, регулирующей вопросы межконфессиональных отношений. Если не разработаны и не закреплены механизмы взаимодействия религиозных объединений, органов власти и гражданского общества, то повышается риск применения поверхностных подходов к разрешению возникающих конфликтов или их систематического игнорирования (Малашенко, 2020).
На современном этапе российские исламские институты добились значительных успехов в интеграции в контур внешней политики РФ. Ключевым достижением является их институционализация в качестве субъектов «мягкой силы» и общественной дипломатии (Силантьев, 2007). Площадки, подобные Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир», перешли от декларативного формата к реальному экспертно-аналитическому сопровождению внешнеполитических инициатив. Успешно реализуются проекты в образовательной сфере, в частности на базе Болгарской исламской академии и других центров формируется российская школа исламского богословия, предлагающая уникальную модель сочетания традиционных ценностей и светского образования, что находит отклик в странах, ищущих альтернативу западным и ближневосточным образовательным парадигмам. В экономической плоскости содействие исламских структур в продвижении стандарта халяль и развитии партнерского финансирования стало практическим вкладом в диверсификацию экономических связей России в условиях санкционного давления.
Несмотря на очевидные достижения, деятельность исламских институтов сопряжена с рядом системных проблем. Первостепенной является недостаточная координация между различными духовными управлениями мусульман внутри самой России, что порой приводит к конкуренции за международные контакты и размывает единый вектор исламской дипломатии. Сохраняется разрыв между официальным дискурсом межрелигиозного согласия, транслируемым на внешнюю аудиторию, и сложными процессами на низовом уровне, связанными с адаптацией мигрантов и профилактикой ксенофобии. Более того, существует риск ценностной мимикрии, когда апелляция к традиционным ценностям на международной арене не всегда подкрепляется последовательной политикой по их защите и развитию внутри страны. К внешним вызовам относятся усиление конкуренции за влияние в исламском мире со стороны других глобальных и региональных акторов, а также целенаправленные кампании по дискредитации роли российского ислама как медиатора.
В контексте формирования многополярного миропорядка перед российскими исламскими институтами открываются новые стратегические возможности. Перспективным направлением является переход от общей гуманитарной повестки к специализированным трекам сотрудничества: цифровая исламская дипломатия, совместная разработка этических норм в области искусственного интеллекта на основе общих духовно-нравственных принципов, а также экологическая повестка (проекты «экоислама»). Потенциал России как образовательного хаба для исламского мира далеко не исчерпан и может быть расширен за счет программ двойных дипломов и научных стажировок в области исламо-, востоковедения и сравнительной теологии. Наконец, уникальный опыт России по гармонизации государственно-конфессиональных отношений в полиэтничной среде может быть представлен в качестве востребованной модели для стран исламского мира, сталкивающихся с вызовами секуляризации, религиозного экстремизма и сохранения национальной идентичности. Эффективное применение этих возможностей позволит не просто реагировать на текущую конъюнктуру, а стратегически укреплять позиции России в качестве одного из цивилизационных центров современного мира.
Заключение . На основании исследования считаем целесообразным сформулировать следующие практические рекомендации, направленные на повышение эффективности использования потенциала исламских институтов во внешней политике России.
-
1. Институциональная координация . Необходимо создать на базе Общественной палаты РФ или Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» постоянно действующий межмуфтиятский координационный совет по международной деятельности. Целью органа
-
2. Стратегическая специализация . Необходимо обеспечить переход от общих межрелигиозных форумов к специализированным и прагматически ориентированным трекам сотрудничества.
-
3. Синхронизация внутренней и внешней повестки . Целесообразно разработать и внедрить комплексную государственную программу, направленную на гармонизацию внутренней и внешней «мягкой силы». Необходимо, чтобы позитивный образ России как страны межконфессионального мира, транслируемый вовне, подкреплялся эффективными и системными мерами по социокультурной адаптации мигрантов и профилактике ксенофобии внутри государства, что повысит доверие к российской модели у зарубежных партнеров.
должны стать выработка единой внешнеполитической повестки, исключение конкуренции и согласование инициатив для представления консолидированной позиции российского ислама на мировой арене.