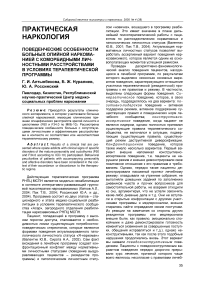Поведенческие особенности больных опийной наркоманией с коморбидными личностными расстройствами в условиях терапевтической программы
Автор: Алтынбекова Г.И., Нуралиев Б.Ж., Россинский Ю.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Практическая наркология
Статья в выпуске: 4 (38), 2005 года.
Бесплатный доступ
Приводятся результаты клинического эксперимента, в котором участвовали больные опийной наркоманией, имеющие клинические признаки специфических расстройств зрелой личности и циклотимии (F60 и F34.0 по МКБ-10). Рассмотрены поведенческие особенности больных с сопутствующими личностными и аффективными расстройствами в контексте их соответствия или несоответствия терапевтическому режиму.
Короткий адрес: https://sciup.org/14295092
IDR: 14295092
Текст научной статьи Поведенческие особенности больных опийной наркоманией с коморбидными личностными расстройствами в условиях терапевтической программы
Павлодар, Казахстан, Республиканский научно-практический Центр медикосоциальных проблем наркомании
Р е з ю м е : Приводятся результаты клинического эксперимента, в котором участвовали больные опийной наркоманией, имеющие клинические признаки специфических расстройств зрелой личности и циклотимии (F60 и F34.0 по МКБ-10). Рассмотрены поведенческие особенности больных с сопутствующими личностными и аффективными расстройствами в контексте их соответствия или несоответствия терапевтическому режиму.
A b s t r a c t : Results of a clinical trial are presented where opiate addicts with clinical signs of specific disorders of the mature personality and cyclothymia (F60 and F34.0 according to ICD-10) participated. Behavioral peculiarities of patients with accompanying personality and affective disorders have been considered in the context of their accordance or discordance to the therapeutic regime.
Действующая терапевтическая программа РНПЦ МСПН является моделью неоабилитации в контексте интегративно-развивающей групповой психотерапии наркозависимых (Катков А.Л., 2004; Пак Т.В., 2004; Россинский Ю.А. и др., 2004). Программа состоит из двух этапов – стационарного и этапа медико-социальной реабилитации в условиях терапевтического сообщества «Асар», загородного отделения реабилитации наркозависимых РНПЦ МСПН.
Пациент, попадающий в программу с высоким порогом доступа, сталкивается с необходимостью ломки существующих потребностно-поведенческих стереотипов, которые являются формами поведения актуализированного патологического личностного статуса «Я-наркоман» (Валентик Ю.В., Сирота Н.А., 2002). Сам факт вхождения в лечебную программу создает конфронтационный конфликт между нормативными личностными статусами (поведение выздоравливающих пациентов – резидентов программы) и патологическим личностным стату- сом «новичка», вошедшего в программу реабилитации. Это имеет значение в плане дальнейшей психотерапевтической работы с пациентом по растождествлению нормативных и патологических личностных статусов (Валентик Ю.В., 2001; Пак Т.В., 2004). Актуализация нормативных личностных статусов позволяет выработать ассертивный вариант поведения нар-козависимого, которое является одним из основополагающих моментов успешной ремиссии.
Проведен дескриптивно-феноменологический анализ поведения пациентов, находящихся в лечебной программе, по результатам которого выделено несколько основных вариантов поведения, характеризующего отношение участника терапевтической (резидентской) программы к ее правилам и режиму. В частности, выделены следующие формы поведения. Синергетическое поведение, которое, в свою очередь, подразделялось на два варианта: позитивно-лидерское поведение – активная поддержка режима, активное поддержание существующих правил и поведенческих норм лечебного сообщества; конструктивно-ассертивное поведение, когда пациент не являлся лидером, однако полностью принимал существующие правила терапевтического сообщества, не включался в ситуации, подвергающие существующие правила, существующий режим деструктивной диверсификации. Конфронтационное поведение, которое также имело несколько вариантов. Первый вариант внешне напоминал конструктивно-ассертивное поведение, т.е. пациенты не нарушали режим и внешне демонстрировали свое позитивное отношение к его правилам и требованиям. Однако, нередко такие пациенты демонстрировали пассивный протест лечебному режиму: опаздывали на утренние собрания, не выполняли домашних заданий по заполнению дневников чувств и прочих вопросников для самостоятельной работы, не вовремя отходили ко сну, аргументируя, что не успели закончить какие-либо дневные дела и т.д. Они не вступали в открытые конфронтации с другими участниками программы и медперсоналом, внешне старались найти оправдание своим поступкам. Их реакции на замечания со стороны других резидентов программы или медперсонала внешне были, как правило, эмоционально спокойными и даже демонстрировали готовность изменяться (извинения за совершенные поступки, обещания исправляться и т.д.), однако неконструктивными, так как после этого подобные нарушения продолжались вновь. Этот вариант мы назвали псевдоконструктивным поведением. Пациенты с псевдоконструктивным вариантом поведения нередко досрочно прерывали курс лечения, причиной которого чаще всего являлось несогласие с правилами лечеб- ного режима, его непринятие. Следующая форма поведения - внешнепротестная -является своеобразным антиподом позитивнолидерскому поведению. Данный вариант часто проявляется в форме открытого агрессивного поведения, когда пациенты негативно отзываются о существующем лечебном режиме, часто допускают грубые оскорбления, брань (вербальная агрессия) в адрес существующих порядков, упрекают медперсонал, пытаются обвинить его в несправедливости, ущемлении их прав и т. д. Такие пациенты открыто требуют пересмотра существующих правил, на собраниях сообщества выступают в качестве негативных лидеров, пытаются оказывать открытое давление на тех пациентов, кто демонстрирует позитивно-лидерское и конструктивно-ассертивное поведение. Нередко угрожают специально нарушить режим в знак протеста, иногда демонстративно нарушают его, что часто приводит к досрочному исключению этих пациентов из программы. Еще одна протестная форма поведения - скрытый активный протест. Данные пациенты являются своего рода «серыми кардиналами», представителями «теневых кабинетов» и для режима и эмоциональной атмосферы лечебного сообщества представляют наибольшую опасность. Они, так же как и пациенты с открытыми формами протеста, стараются саботировать существующий лечебный режим, добиться его изменения в пользу своих интересов, однако значительно реже, чем предыдущие, делают это открыто. В общении с медперсоналом они часто подчеркнуто вежливы, не вступают в открытые конфронтации по поводу существующего режима, хотя постоянно претендуют на роль лидера. В психотерапевтической группе они ведут себя как хозяева положения, инициируют определенные темы обсуждения на терапевтической группе, контролируют активность участников группы, определяют уровень открытости обсуждения некоторых тем. Они как бы ведут соревновательную игру с психотерапевтом или психологом, стараясь показать окружающим, что могут держать под контролем ситуацию в сообществе. Нередко предлагают медперсоналу в виде сделки контроль за соблюдением лечебного режима взамен на выполнение каких-либо их требований (поведение, так похожее на торг террориста, удерживающего заложников). Эти пациенты часто санкционируют проносы алкоголя или наркотиков в отделение, пытаются договариваться с охраной, являются инициаторами совместного употребления ПАВ в отделении. Их поведение напоминает поведение уголовного лидера в тюрьме - «пахана».
Был обнаружен интересный факт, свидетельствующий о том, что позитивно-лидерское и открытое протестное (негативно-лидерское)
поведение в некоторых случаях было присуще одним и тем же лицам. То есть одни и те же пациенты на определенных этапах лечения выполняли различную роль как в континууме «позитивный лидер → негативный лидер», так и в континууме «негативный лидер → позитивный лидер». Как правило, это были пациенты с дис-социальным и эмоционально-неустойчивым (импульсивный тип) расстройствами личности, а также циклоидные личности.
В отношении форм поведения, демонстрирующих открытую конфронтацию, можно отметить, что они наиболее характерны для нарко-зависимых с истерическим расстройством личности (2,7 % < 13,6 % > 35,5 %) и циклотимией (1,2 % < 12,5 % > 39,1 %). Активный протест в скрытой форме или саботаж наиболее часто встречался у наркозависимых с диссоциальным расстройством личности (33,3±15,4 %). Достоверно, что среди тех, кто был исключен из программы, т.е. досрочно выведен из нее за нарушение режима, чаще в среднем в 3,8 раза встречались наркозависимые, имеющие специфические расстройства личности, чем нарко-зависимые без коморбидной патологии. Среди пациентов, которые являлись позитивными лидерами и демонстрировали поведение, направленное на поддержание существующих правил и норм лечебного сообщества, также чаще встречались наркозависимые с сопутствующими личностными расстройствами. Как мы уже отмечали выше, именно для пациентов с сопутствующими личностными расстройствами, в том числе иногда одних и тех же лиц, характерны роли как позитивного лидера, поддерживающего лечебный режим, так и негативного лидера, активно противопоставляющего себя существующему режиму той лечебной программы, в которой он находится на данный момент. Среди пациентов с сопутствующими личностными расстройствами в среднем в 17,9±5,5 % случаев встречаются негативные лидеры, среди наркозависимых без сопутствующих личностных расстройств таких случаев не зарегистрировано.
Достоверные различия частоты встречаемости лиц с явными лидерскими качествами (негативные и диссоциированные лидеры) в группе наркозависимых без коморбидной патологии и опиоидных зависимых с сопутствующими личностными расстройствами приведены в таблице.
Как и в случае с параметром «нарушение режима», мы отдельно сравнили каждую нозологическую подгруппу личностных расстройств с группой больных опийной наркоманией, не имеющих коморбидных расстройств личности в плане их отношения к режиму лечебной программы. В таблице показаны достоверные различия форм поведения, характеризующих от- ношение пациентов (больных опийной наркоманией с сопутствующими специфическими расстройствами зрелой личности и без таковой) к режиму лечебной программы. Среди наркоза-висимых с коморбидными личностными расстройствами достоверно чаще встречаются лица, играющие роль негативного лидера, а именно среди наркозависимых с диссоциаль-ным личностным расстройством (33,3±15,4 %).
Таблица
Отношение к режиму лечебной программы нар-козависимых без коморбидных личностных расстройств (1-я группа, n=66) и с сопутствующими личностными расстройствами (2-я группа, n=184)
|
1 -я группа (F11.2) |
2-я группа (F11.2+F*) |
Р |
||
|
1 |
100 % (92<>100 %) |
F60.2* |
55,6±16,2 % |
<0,01 |
|
F60.30* |
73,0±14,3 % |
|||
|
F60.4* |
86,4 % (62,6<>95,7 %) |
<0,05 |
||
|
F34.0* |
75 % (46,4<>93,1 %) |
<0,01 |
||
|
2 |
0 % (0<>6 %) |
F60.2* |
11,1 % (2,8<>26,2 %) |
<0,05 |
|
F60.30* |
21,6±13,3 % |
|||
|
F60.4* |
13,6 % (2,7<>35,5 %) |
|||
|
F34.0* |
12,5 % (1,2<>39,1 %) |
|||
|
3 |
0 % (0<>6 %) |
F60.2* |
33,3±15,4 % |
<0,01 |
|
F34.0* |
12,5 % (1,2<>39,1 %) |
<0,05 |
||
|
4 |
31,8±11,2 % |
F60.2* |
52,8±16,3 % |
<0,05 |
|
F34.0* |
62,6±23,7 % |
|||
|
5 |
3,0 % (1,1<>10,5 %) |
F60.2* |
16,7±12,2 % |
<0,05 |
|
F34.0* |
18,8 % (3,7<>46,3 %) |
|||
|
6 |
0 % (0<>6 %) |
F60.2* |
33,3±15,4 % |
<0,01 |
|
F60.30* |
27,0±14,3 % |
|||
|
F60.4* |
13,6 % (2,7<>35,5 %) |
<0,05 |
||
|
F34.0* |
25,0 % (6,8<>52,4 %) |
<0,01 |
||
|
7 |
0 % (0<>6 %) |
F60.2* |
11,1 % (2,8<>26,2 %) |
<0,05 |
Примечание. * – Нозологическая группа с комор-бидностью. В первом столбце даны обозначения характера поведения: 1 – внешнее принятие режима, 2 – открытый протест, 3 – скрытый протест, саботаж, 4 – досрочное прерывание программы, 5 – исключение из программы, 6 – негативный лидер, 7 – диссоциированный лидер поведения с открытыми формами протеста в адрес лечебного режима первое место занимают наркозависимые с эмоциональнонеустойчивым личностным расстройством импульсивного типа (21,6±13,3 %). Второе место, приблизительно с равной превалентностью, занимают наркозависимые с истерическим расстройством личности (2,7 % < 13,6 % > 35,5 %), циклотимией (1,2 % < 12,5 % > 39,1 %) и диссо-циальным личностным расстройством (2,8 % < 11,1 % > 26,2 %). Повторимся, что среди нарко-зависимых без сопутствующих личностных расстройств подобных случаев зарегистрировано не было, как не было выявлено случаев активного сопротивления лечебному режиму.
Таким образом, от 30 до 40 % больных опийной наркоманией, в том числе со специфическими личностными расстройствами, досрочно прерывают лечение уже на первом его этапе (до 60-ти суток). Частота встречаемости случаев досрочного исключения из программы за нарушение режима достоверно в 3,8 раза выше среди наркозависимых с сопутствующими личностными расстройствами, включая циклотимию, в сравнении с наркозависимыми без ко-морбидной психической патологии.

Рис. Средний уровень распространенности случаев нарушений лечебного режима больными опийной наркоманией
Второе место занимают наркозависимые с эмоционально-неустойчивым (импульсивный тип) личностным расстройством (27,0±14,3 %) и циклоидные личности (6,8 % <25,0 %> 52,4 %), третье место занимают наркозависимые с истерическим расстройством личности (2,7 % <13,6 %> 35,5 %).
Среди наркозависимых с коморбидными личностными расстройствами встречаются лица, которые за период лечения проявляют себя как негативные, так и позитивные лидеры (континуумы: «негативный лидер → позитивный лидер», «позитивный лидер → негативный лидер»). Таких лиц мы условно обозначили как «диссоциированные» лидеры. По частоте встречаемости случаев конфронтационного
На рисунке схематически изображен усредненный уровень распространенности случаев нарушений лечебного режима пациентами различных нозологических групп. По частоте встречаемости случаев регистрации «регулярных нарушений режима» на первое место, среди всех прочих нозологических групп, выходит группа больных опийной наркоманией с истерическими личностными расстройствами. Превалентность зарегистрированных случаев регулярного нарушения режима у пациентов этой группы в 6 раз достоверно превышает аналогичные показатели больных опийной наркоманией, не имеющих коморбидных личностных расстройств, но при этом удельный вес тяжести нарушений лечебного режима у пациентов дан- ной группы меньше, чем у наркозависимых с диссоциальным и эмоционально-неустойчивым расстройствами личности
Наиболее сложными пациентами, поведение которых оказывает деструктивное воздействие и негативное влияние как на других пациентов, так и на режим программы и эмоциональную атмосферу сообщества, являются больные опийной наркоманией с коморбидным расстройством личности. Наиболее неблагоприятными для лечебного режима и терапевтического сообщества в целом являются лица с диссо-циальным и эмоционально-неустойчивым расстройством личности по импульсивному типу, а также истерическим расстройством личности и циклотимией. Пациентов с такого рода специфическими расстройствами желательно вводить в группу, где уже сложилась конструктивная терапевтическая атмосфера, где пациенты уже знакомы с основными причинами поведения, актуализированного патологическим личностным статусом «Я-наркоман», обучены техникам конструктивной конфронтации и «расто-ждествления» патологического личностного статуса с нормативным.
ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ СОСУДИСТАЯ РЕАКТИВНОСТЬ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ОПИЙНЫХ АДДИКТИВНЫХ СОСТОЯНИЯХ
К. Ю. Николаев, С. В. Пронин
Новосибирск, ГУ НИИ терапии СО РАМН, Наркологическая больница «Витар»
Р е з ю м е : Данное исследование проведено для изучения связи между эндотелий-зависимой сосудистой реактивностью микроциркуляторного русла и опиоидной зависимостью. Объектом исследования были 16 больных с опиоидной зависимостью и 20 здоровых лиц. Кожная сосудистая реактивность в области предплечий определялась фотоплетизмо-графическим методом после внутрикожного введения гистамина – вещества с эндотелий-зависимым действием. Низкая и вазопрессорная сосудистая реактивность к гистамину была связана с опиоидной зависимостью.
A b s t r a c t : This study was conducted to establish the relationship between endothelium-dependent vascular reactivity of microcirculation and opioids abuse. The subjects were 16 patients with opioids abuse and 20 healthy control subjects. The cutaneous vascular reactivity of the forearms was measured by plethysmography method after intradermal injection of endotheliumdependent agent histamine. Low and vasoconstrictor vascular reactivity to histamine were associated with opioids abuse.
Известно, что опиаты вызывают высвобождение из эндотелиальных клеток мелких сосудов оксида азота (NO), а эндотелиальная NO-синтетаза способствует развитию вызываемой опиатами вазодилятации [5, 11]. Активность эндотелиальной NO-синтетазы регулируется опиатами опосредовано через уровень внутриклеточного кальция [6]. Кроме этого обнаружено, что опиаты через мю-рецепторы, расположенные в эндотелии сосудов, могут влиять на синтез NO и тем самым на сосудистый тонус [10]. Таким образом, при опиоидной зависимости могут наблюдаться изменения со стороны эндотелий-зависимой сосудистой реактивности на уровне микроциркуляторного русла.
Целью исследования явилось изучение сосудистой реактивности (СР) микроциркулятор-ного русла к гистамину – вазоактивному веществу с депрессорным эндотелий-зависимым действием у больных с опиоидной зависимостью.
Материал и методы. Обследовано 16 пациентов с опиоидной зависимостью (средний возраст 25,4±0,7 года), в том числе 13 мужчин (81,2 %) и 3 женщины (18,8 %). Контрольную группу составили 20 здоровых лиц (средний возраст 26,6±1,3 года), 13 мужчин (65,0 %) и 7 женщин (35,0 %). Обследованным лицам проводили сбор жалоб, анамнеза, физикальное исследование, определение показателей роста, веса, измерение показателей артериального давления (АД), запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях, определение СР к гистамину (СРГ) в концентрации 10-7 г/мл. Рост измерялся в положении стоя на стандартном ростомере. Измерение проводили с точностью до 0,5 см. Массу тела измеряли на стандартных рычажных весах. Измерение проводили с точностью до 0,1 кг. Измерение АД проводили после не менее чем 5-минутного отдыха в положении сидя с интервалом в 2 минуты на правой руке пациента ртутным сфигмоманометром Riva-Rocci. При расхождении результатов двух измерений на 5 мм рт. ст. и более производили третье дополнительное измерение АД. В анализе использовали средние показатели АД. Определение сосудистой реактивности к ВАВ проводилось с помощью фотоплетизмографа модели 057-У 4.2 (Россия) фотоплетизмографиче-ским методом [2]. В основу метода положена оценка изменения кровотока в сосудах кожи предплечья в ответ на введение вазоактивного вещества гистамина [1]. Показатель СРГ выражался в условных единицах (усл. ед.).
Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере «Сеleron-2800» с помощью статистической программы SPSS 11.5. Используемые нами в данной работе количественные параметры были тестированы на соответствие функции нормального распределения с помощью критерия нормальности Колмогорова–Смирнова, а также прошли визуальную проверку с помощью гистограммы. Сравнение средних проводили при помощи t-теста. Для стандартизованного изучения ассоциаций между показателями применяли парциальный корреляционный анализ. Для сопоставления непараметрических показателей использовали критерий хи-квадрат. Показателем статистической достоверности считали уровень р<0,05.
Результаты и обсуждение . Данные, полученные при обследовании здоровых лиц и больных с опиоидной зависимостью, представлены в таблице.
У больных с опиоидной зависимостью были ниже, чем в контрольной группе, показатели систолического АД и СРГ. Кроме этого у больных с опиоидной зависимостью чаще, чем у здоровых лиц, отмечалась прессорная (парадоксальная) СРГ (37,5 и 0,0 %, хи-квадрат=9,00; р=0,003), характеризующая значительные нарушения функции эндотелия сосудов [8]. Так как у больных с опиоидной зависимостью уровень систолического АД был ниже, чем у здоровых людей, мы использовали данный показа- тель в качестве поправочного коэффициента в парциальном корреляционном анализе. Обнаружено, что на ассоциацию опиоидной зависимости с прессорной (парадоксальной) СРГ низкие показатели систолического АД не оказывали влияние (r=+0,562, p=0,002).
Таблица
Показатели клинического исследования и реактивности сосудов микроциркуляторного русла на гистамин (M±m)
|
Показатели |
Больные с опиоидной зависимостью |
Здоровые лица |
р |
|
Рост (см) |
173,5±2,0 |
171,0±2,6 |
0,450 |
|
Вес (кг) |
69,8±2,7 |
66,0±3,2 |
0,522 |
|
Систолическое АД (мм рт. ст.) |
107,0±3,7 |
120,2±2,6 |
0,008 |
|
Диастолическое АД (мм рт. ст.) |
70,5±3,9 |
69,7±2,1 |
0,834 |
|
СРГ (усл. ед.) |
21,1±10,6 |
50,7±4,7 |
0,010 |
Возможно, связь сосудистой реактивности микроциркуляторного русла к гистамину с опиоидной зависимостью обусловлена тем, что опиоиды активируют свободные радикалы и вызывают массивное высвобождение гистамина из тучных клеток, что является дополнительным фактором риска при героиновой передозировке [3]. Кроме этого системная дегрануляция тучных клеток с высвобождением гистамина предшествует смерти во время приема героина [4]. Высокий уровень гистамина в крови может вызывать вазоконстрикцию. Массивное высвобождение гистамина из тучных клеток и его воздействие на специфические рецепторы в эндотелии может активировать циклооксигеназный каскад реакций с активацией прессорных веществ – тромбоксана A 2 и простагландина H 2 [8]. Экспериментально показано, что некоторые опиоиды ослабляют эндотелий-зависимую вазодилятацию, ингибируя активности NO-синтетазы [9]. В результате этого у больных с опиоидной зависимостью могут возникать прессорные (парадоксальные) сосудистые реакции микроциркуляторного русла на гистамин. Известно, что морфин, особенно в сочетании с липополисахаридами, стимулирует развитие апоптоза в сосудистых эндотелиальных клетках [7]. Апоптоз на уровне эндотелия способствует развитию эндотелиальных дисфункций и может влиять на снижение СР к депрессорным эндотелий-зависимым вазоактивным веществам.
Таким образом, снижение уровня сосудистых реакций микроциркуляторного русла на гистамин вплоть до появления прессорной (парадоксальной) СРГ можно рассматривать как проявление дисфункции эндотелия.