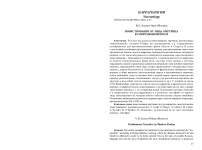Повествование от лица мертвеца в современной прозе
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется повествование мертвеца, реализующее «невозможный», согласно Р. Барту, акт высказывания, т. е. утверждающее одновременно два противоположных факта (Жизнь и Смерть). В связи с отсутствием устойчивого русскоязычного термина для повествования такого типа предлагается термин «постум-нарратив». Проводится краткий анализ литературы вопроса, в том числе обсуждается (и отвергается) концепция «неестественного повествования». Описываются возможности и ограничения постум-нарратива (в аспекте композиционных форм речи, системы точек зрения и системы персонажей, сюжета и хронотопа), выявляется связанный с ним мотивно-сюжетный комплекс (прохождение героя через смерть-преисподнюю; «воскресение после смерти»; дурная бесконечность, блуждания по фрактальным лабиринтам мира мертвых и образ вожатого; насильственная смерть и неупокоенность мертвеца; мотив двойников, один из которых жив, а второй мертв, причем зачастую они связаны родственными отношениями; мотив суда рассказчика-мертвеца над другими и над собой; мотив озарения-осознания и др.). С опорой на труды О. М. Фрейденберг намечается генезис постум-нарратива в архаическом культе мертвых, в мифологических повествованиях о путешествиях на тот свет, в жанре «разговоров мертвых» с их сатиризирующей тенденцией (которая очевидна и в современных постум-нарративах) и в античных эпитафиях от первого лица, повествующих об эпизодах жизни и обстоятельствах смерти покойника. Отмеченные наблюдения делаются на широком круге текстов мировой литературы, преимущественно XX и XXI вв.
Повествование мертвеца, постум-нарратив, «неестественное повествование», мертвый рассказчик, у селф, о. памук, э. сиболд, м. спарк, х. рульфо, ф. о’брайен, п. лагерквист, путешествия на тот свет, разговоры мертвых, эпитафия
Короткий адрес: https://sciup.org/149140453
IDR: 149140453 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-27
Текст научной статьи Повествование от лица мертвеца в современной прозе
Эта статья посвящена любопытному нарративному парадоксу, особенно распространенному в литературе XX XXI вв., но берущему начало еще в древности, — «повествованию мертвеца», т. е. персонажа, который в условной реальности внутреннего мира произведения представлен как персонаж мертвый (умерший, погибший). Задачи статьи состоят в том, чтобы, во-первых, продемонстрировать возможности и ограничения этого типа нарратива, во-вторых, выявить связанный с ним мотивно-сюжетный комплекс и, в-третьих, наметить его генезис.
Повествование мертвеца реализует, по словам Р. Барта, «невозможный», казалось бы, «акт высказывания»: «...прежде, чем сказать: “я умер”, — голос уже фактом своего существования как бы говорит: “я говорю”. <.. .> сопряжение первого лица Це) с предикатом mart (мертв) окажется в принципе невозможным: это языковая лакуна <...> перед нами — перформативная конструкция <...> невозможная фраза перфор-мирует собственную невозможность. <...> С чисто семантической точки зрения, фраза “je suis mart ” утверждает одновременно два противоположных факта (Жизнь и Смерть); это <...> уникальная энантиосема: означающее выражает означаемое (Смерть), которое находится в противоречии с фактом высказывания. <...> перед нами доведенный до пароксизма момент трансгрессии, нарушения границы <.. .> фраза “Я умер” — это вовсе не “невероятное сообщение” (1’ёпопсё incroyable), но нечто более принципиальное — “невозможный акт высказывания” (renonciation impossible)» [Барт 1989, 453-455].
Барт разбирает в своей статье новеллу Э. А. По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» (1845), где повествование ведется от первого лица и нарратором является герой-гипнотизер и медиум. Реплика «я умер», как и ряд других, сходных по смыслу, принадлежит мистеру Вальдемару, которого нарратор погрузил в гипнотический транс во время предсмертной агонии. Вальдемар умирает, о чем свидетельствует остановка дыхания (и некоторые другие явственные знаки смерти), однако тело не разлагается в течение семи месяцев, пока героя не «будит» нарратор: «<...> с языка, но не с губ, страдальца рвались крики: “мертв!”, “мертв!”, все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осело, расползлось, разложилось под моими руками. На постели пред нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса» [По 1970, 642].
Но есть произведения, которые не просто включают реплики мертвого персонажа, а целиком написаны от лица мертвеца.
С тех пор, как в 1973 г. Барт затронул проблему повествования от лица мертвого героя, она стала концептуализироваться в основном в рамках школы «неестественного повествования» (unnatural narratives) Б. Ричардсона (США). «Неестественное повествование», по его мнению, представляет собой выход за пределы «миметической репрезентации», нарушение конвенций «спонтанного рассказывания» [Richardson 2006, 14]. Я. Альбер дает следующее определение такому нарративу: «Неестественный нарратив нарушает физические законы, логические принципы или стандартные для человека ограничения знания, представляя такие сценарии рассказывания, таких повествователей, персонажей, временные или пространственные условия, которые не могут существовать в реальном мире» [Alber 2013].
Само собой оказывается, что такой подход покрывает множество случаев, весьма далеких друг от друга: «<.. .> в неестественных нарративах повествователем может быть невозможно красноречивый ребенок, младенец без мозга, женская грудь, животное или дерево. В других случаях нарратор уже умер [курсив мой. — В.З.-О.] или еще не родился. <.. .> в неестественных нарративах персонажи могут быть полулюдьми-полуживотными или говорящими трупами [курсив мой. —В.З.-О.]» [Alber 2013].
Далее Альбер говорит о неестественной темпоральности, «неестественной пространственности» и пр. Очевидно, концепция «неестественного повествования» проистекает из когнитивной нарратологии с ее уравниванием реального и фикционального, отрицанием специфики искусства: тогда, разумеется, все, что выходит за пределы обыкновенного «здравого смысла», житейских понятий о «реальности» и «реалистичности» будет казаться «неестественным». Отсюда такое широкое понимание «неестественного повествования», которое парадоксально оказывается представленным в литературе гораздо в больших масштабах, чем «естественное» (последнее фактически ограничивается, если воспользоваться общеизвестной терминологией Ф. Штанцеля, персональной повествовательной ситуацией, изобретенной лишь в XIX в., и я-повествованием со строгим ограничением точки зрения; даже столь привычный всезнающий пове- ствователь есть нарушение «естественных» представлений о границах человеческого знания).
По нашему же мнению, искусство, в том числе словесное, по сути своей конвенционально и «неестественно», поэтому и понятие «неестественного повествования» в большой степени теряет свой смысл. И даже такой вроде бы шокирующий прием, как ведение речи от лица мертвого героя, может представать — в зависимости от структуры произведения и, видимо, авторской интенции — как «неестественным», так и вполне «естественным». Другое возражение против основной концепции, в рамках которой обычно рассматривается нарратив мертвеца, состоит в том, что его в принципе нельзя уравнивать с такими повествовательными играми, как наррация от лица ребенка или животного и пр. Не случайно он укоренен в древнейших текстах культуры: он касается принципиальнейшей сферы человеческих представлений — о смерти и послесмертии, об инобытии. Как объясняет мертвый Гёте мертвому Хемингуэю, блуждая в «запредельном мире», в романе М. Кундеры «Бессмертие» (1990), «быть смертным — это самый элементарный человеческий опыт, но при этом человек никогда не способен был принять его, понять и вести себя соответственно. Человек не умеет быть смертным. А умирая, не умеет быть мертвым» [Кундера 2005, 237]. Именно рефлексией этого невозможного «опыта» и является нарратив мертвеца.
Этот тип повествования (англ, posthumous narration, narration from beyond the grave, after-life narrative; франц, autothanatographie) был описан в книге Э. Беннетт “Afterlife and Narrative in Contemporary Fiction” (2012). Книга написана в рамках концепции «неестественного повествования» и ограничивается лишь относительно современной англоязычной прозой, хотя в ней и есть отдельные экскурсы в предшествующую литературу: «Именно сочетание повествовательного экспериментирования и богатой традиции художественных изображений жизни после смерти позволяет современным романам о послесмертии занять столь важное место на пересечении конвенции и новаторства» [Bennett 2012, 19]. Несколько статей посвящено такому нарративу в новейшем издании “The Routledge Companion to Death and Literature” (2020), в частности статья Я. Альбера, в которой он делает попытку, хоть и весьма неубедительную, рассмотреть нарратив мертвеца ранее XX в. (но разбирает тексты, где появляются герои-мертвецы, а не рассказчики-мертвецы, что составляет большую разницу) [Alber 2020], и статья Ф. Каррарда, где на материале современной литературы — не только англоязычной — исследователь кратко описывает варианты хронотопа, способов ведения речи и системы точек зрения, а также проблему «правдоподобия», в повествованиях «из-за гроба» [Carrard 2020]. Еще одно заметное издание — эссе Ф. Вейнманна “ “Je suis mort”: Essai sur la narration autothanatographique” (2018), где он предлагает для такого типа нарратива термин «автотанатография» (по аналогии с «автобиографией»), заимствуя его у Ж. Деррида, который, однако, употреблял его в несколько ином значении, имея в виду повествование о предчувству- емой смерти, «спекуляции» на эту тему [Деррида 1999, 424]. Анализируя произведения современной литературы (в основном начиная с 1980-х гг), Вейнманн настаивает на том, что повествование от лица мертвеца является современной новацией: хотя путешествия по Аиду, «замогильные записки» и явления призраков вписываются в древнюю традицию, столь же древнее «табу» воспрещало передавать мертвецу повествование в его «тотальности» (идея, которая представляется нам не вполне верной, о чем мы скажем далее). Центральным вопросом в книге Вейнманна становится вопрос о статусе «я»: по его мнению, авторы автотанатографических историй интересуются в первую очередь «фундаментальным вопросом о “я” вообще, который задается фактом повествовательного устройства самой формы: кто говорит, когда я говорю “я”? Кто я вне тела? Что есть индивидуальность в то время, когда, согласно диагнозу Фуко, рушится концепция объективности, на основе которой строился “способ единичного существования человека” <...> и всё ярче на нашем горизонте сияет “человек как существо языка”?» [Weinmann 2018, 226-227].
Как показывает этот краткий обзор, почти никогда не ставится (а если и ставится — то крайне слабо выполняется) задача диахронического описания «нарратива мертвеца». В основном внимание уделяется литературе XX XXI вв., что понятно в связи с расцветом этой формы в указанный период, однако совершенно не объясняет ее генезиса (и упускает из виду эволюцию). Между тем, как полагал А. Н. Веселовский, «история поэтического рода — лучшая поверка его теории» [Веселовский 1886, 26], а по мнению О. М. Фрейденберг, «вопрос о происхождении» (генезисе) «является для природы литературного явления центральным» [Фрейденберг 1995, 84], ибо только генезис создает феномен как органическое единство. Чтобы разобраться в природе повествования от лица мертвеца (на русском языке нет устоявшегося термина, в связи с чем мы предлагаем понятие «постум-нарратив» — от лат. postumus, те. «посмертный»), выявить его структуру и специфические возможности, нужно восстановить его генезис и эволюцию, связанный с ним мотивно-сюжетный комплекс и мифопоэтику. В рамках одной статьи, разумеется, возможно лишь наметить основные характеристики современного постум-нарратива в связи с предполагаемыми его истоками, но сначала скажу о ряде его конструктивных возможностей.
В аспекте композиционных форм речи мертвый нарратор обычно ведет повествование от первого лица; он может быть единственным нарратором (это бывает чаще) или одним из ряда повествователей, в том числе повествователей мертвых (как в романе Орхана Памука «Меня зовут Красный», 1998).
В аспекте кругозора, или организации точек зрения, мертвый нарратор может знать о том, что он мертв, не знать, догадываться, обнаруживать свой статус постепенно; с этим непосредственно связан и горизонт ожиданий читателя. Примечательно, что, хотя герой находится вне мира живых, это не дает ему позиции всезнания, при том, что он часто претендует на суд над живыми и над собственной жизнью; более того, сюжет романа часто строится именно на постепенном прозрении героя, оказавшегося в инобытии, — но чаще относительно своего нового статуса, чем относительно «смысла жизни» как такового, который так и остается от него скрытым.
С точки зрения сюжета мертвый нарратор может быть человеком, умершим насильственным путем или естественным; в зависимости от этого находятся и комплекс мотивов, и состав персонажей, и прагматика рассказывания. Как многократно отмечалось, зачастую сюжет связан с насильственной смертью и мотивом неупокоенности мертвеца, пока не наказан убийца (см., например, «Милые кости» Э. Сиболд, 2002; «Меня зовут Красный»), Кроме того, сюжет может фокусироваться преимущественно на событиях, приведших к смерти рассказчика, на событиях, последовавших за смертью рассказчика, а также развивать и тот, и другой событийный ряд, причем зачастую их онтологический статус не ясен при первом прочтении.
С точки зрения хронотопа мертвый нарратор может находиться в ином мире, в нашем мире (в разных вариациях, часто в виде призрака), в своего рода пограничье; его смерть может наступить в прошлом, очень далеком или совсем недавнем, в настоящем рассказывания, переживаться неоднократно.
Нужно, кроме того, поставить вопрос о том, что есть постум-нарратив — ограничивается ли он лишь композиционной формой Ich-Erzahlung, «я-повествования», когда мертвец именно говорит, или имеет смысл расширить его до повествования от, например, третьего лица с точкой зрения мертвеца. Казалось бы, проще всего ответить, что размывать границы явления не нужно, однако реальные тексты показывают, что ситуация не так проста. Например, Мюриел Спарк неоднократно экспериментировала с таким нарративом, в процессе которого постепенно оказывалось, что персонаж или даже целый ряд персонажей — мертвецы. Таковы ее рассказы “The Girl I left behind me” («Девушка, которую я оставил», 1957) и «Портобелло-Роуд» (1956), а также роман «Теплица над Ист-Ривер» (1973). Если в рассказах речь ведется именно мертвой героиней, то в романе реализуется повествование от третьего лица, но с обилием несобственно-прямой речи и других признаков, указывающих на доминирование точек зрения героев — мужа и жены Поля и Эльзы Хэзлет. При этом, однако, оказывается, что тот самый «саспенс», который действует в рассказах, возможен и в романе: так же постепенно приоткрывается, что персонажи мертвы (погибли еще в 1944 г. при бомбардировке поезда в Лондоне), а теперь, в 1970-х гг. в Америке, лишь ведут призрачное существование, встречаясь с теми, кто играл значимую роль в их юности, когда они погибли. Даже их сын и дочь оказываются порождениями воображения этих мертвецов. Возвращаясь к концепции «неестественного повествования», с которой мы в целом не согласны: если и создается ощущение неестественности, которое правильнее называть «саспенсом», то создается оно не столько напрямую повествованием от лица мертвеца, сколько интерференцией мира мертвых и мира живых, между которыми трудно провести границы, читательским непониманием условий и границ этого мира. Как только возникает ясность — пропадает и ощущение са-спенса.
Теперь вернемся к мысли о древних истоках постум-нарратива. Вероятно, их следует искать в архаическом культе мертвых тотемистического характера, о котором много писала О. М. Фрейденберг. В частности, она говорит о специфике понимания героя в архаике: «Герой в основном есть покойник. Герои — это умершие. Весь их культ говорит о смерти <.. .> Герой— тотем в состоянии захода, под землей. <.. .> Как у покойника, место культа героя — могила; самая героизация есть воздавание умершим заупокойных почестей. <.. .> Воинственный, отважный характер герой получает впоследствии, и это вытекает из его подвигов в преисподней, где он борется со смертью и вновь рождается в жизнь» [Фрейденберг 1998, 47^19].
Прохождение героя через смерть-преисподнюю, характерное для мифологических и фольклорных повествований о путешествии в иной мир, постоянно отзывается в современных романах, хотя далеко не всегда при этом происходит новое «рождение» нарратора «в жизнь». Зачастую «прохождение через смерть» решается через мотив дурной бесконечности, блуждания по фрактальным лабиринтам мира мертвых. В качестве примеров специально назову такие разные произведения, как романы Хуана Рульфо «Педро Парамо» (1955) и Флэнна О’Брайена «Третий полицейский» (публ. 1967). Примечательно также, что могила нарратора-мертвеца и / или место его смерти получают особую важность в структуре хронотопа (как, например, в романе Элис Сиболд 2002 г. «Милые кости» или в рассказе Мюриел Спарк «Девушка, которую я оставил»),
Фрейденберг возводит первые литературные тексты к представлениям о «смерти как стране, населяемой умершими, которые то умирают, то воскресают, но в том и другом виде действуют и, как это ни странно для нас, живут» [Фрейденберг 1998, 51]. Примечательно в этом свете уже само название романа Уилла Селфа «Как живут мертвецы» (2000), где героиня странствует по Лондону после своей смерти в виде бестелесной тени, наблюдает за жизнью своих двух дочерей, а потом вновь рождается как дочь собственной дочери-наркоманки и, видимо, погибает в раннем детстве.
Несколько иначе это устроено в романе Жана Эшноза «У рояля» (2003), где тоже, как и у Селфа, мир мертвых не отделен непроницаемой границей от мира живых и герой после смерти странствует в человеческом мире, однако реинкарнации здесь не существует и герой не теряет своего тела помимо того, что подвергается пластической операции: после смерти героя отправляют в тот же город, Париж, где он жил, и оказывается, что это и есть ад — ад, в котором некогда не состоявшаяся, хотя, казалось бы, обещанная герою, предназначенная ему любовь, вновь — и теперь уже навеки — ускользает от него. Таким образом, древний мотив «воскресения после смерти» в современном романе решается скорее в пессимистическом, негативизирующем духе.
Далее, нужно помнить о том, что, хотя в древнем эпосе, например в «Одиссее», имеются так называемые «личные рассказы» мертвецов, все же основной текст мертвецу не приписан. Но при этом уже в античности бью жанр, где мертвый говорил от первого лица на всем протяжении текста — это эпитафии от первого лица, которые, как правило, вполне нарративны, т.е. событийны, и передают не чувства близких и родных покойника, а эпизоды его жизни и обстоятельства смерти:
Много я пил, много ел и на многих хулу возводил я;
Нынче в земле я лежу, родянин Тимокреонт;
Родом критянин, Бротах из Гортины, в земле здесь лежу я, Прибыл сюда не затем, а по торговым делам;
Смертью убивших меня накажи, о Зевс-страннолюбец!
Тем же, кто предал земле, радости жизни продли
[Симонид Кеосский 1968, 260-261].
Тут надо помнить о синкретизме древней литературы, в том числе синкретизме субъектном, о неразличении субъекта и объекта речи («В этих эпитафиях автор и умерший еще не отделены, и потому в античной похоронной лирике нет отграниченного, понятийного автора» [Фрейден-берг 1998, 357]), и о том, что эти эпитафии предназначались для могилы, «из которой» будто бы и вещал умерший. Этот синкретизм, только уже как художественно осознанный прием, зачастую возникает и в современном постум-нарративе, причем бывает связан с тем, что герой-мертвец получает статус не только рассказчика, но и автора. Отсюда такие характерные для современного постум-нарративного романа приемы, как ненадежное повествование, когда мертвец оказывается «мнимым», и зачастую сохраняющаяся возможность «двойного прочтения», когда мертвец если и не мним, то «сомнителен».
Видимо, с древним субъектным синкретизмом связан и важнейший для современного постум-нарратива мотив двойников, который тоже восходит к едва ли не первобытным представлениям о смерти. Как пишет Фрейден-берг, «маска», которую клали в могилу умершего, — «эквивалент и двойник мертвеца. <...> у каждого смертного есть обязательный двойник, его антагонист и alter ego. <...> Образ ‘двойника’, возникший из двуединого пассивно-активного образа о тотеме-нетотеме, имел оформления не только в фигурах братьев и отцов. Навсегда сохранились и еще две конфигурации. Это персонаж бога и его смертной тени, его раба-смерти (например, Зевс и Гермес) — во-первых. И, во-вторых, двойников-богов (часто близнецов), из которых один бессмертен <...>, а другой смертен <...> ‘Один из двух’ <.. .> — словом, двойник персонажа, — всегда инкарнирует преисподнюю; один из двух двойников олицетворяет в родовую эпоху смерть-производительницу...» [Фрейденберг 1998, 116].
В качестве примеров обновления в современной постум-нарративной прозе этих древних представлений назову уже упоминавшиеся романы «Педро Парамо» Рульфо (где принцип двойников реализуется, в частности, в паре «отец и сын») и «Как живут мертвецы» Селфа с его изощренной системой двойников, связанной с мотивом рода и роковой повторяемости: события, жесты, имена, особенности внешности повторяются как минимум в трех поколениях.
При этом очевидна «сатиризирующая» тенденция современного постум-нарратива, восходящая к жанру «разговоров мертвых» и к ме-ниппеям Лукиана: «рассказ в преисподней, обозревание земных пороков с небесной высоты <...> становятся топикой сатиры; пережитое на том свете передается в монологической форме. <.. .> Таков и византийский сатирический роман. <...> герой описывает свою болезнь и смерть, а дальше — свое пребывание в царстве смерти и вереницу встреченных там лиц, и в заключение — возврат к жизни» [Фрейденберг 1997, 287].
Огромная традиция таких «разговоров мертвецов», крайне востребованная в эпоху барокко и позднее, отразилась и в современном романе, причем он может как включать «интермедии» этого типа (см., например, «Бессмертие» Кундеры), так и быть целиком написанным в рамках этой традиции. Но — с важным различием: «возврата к жизни» обычно не происходит; правда, и сама «жизнь» и ее принципиальное отличие от «смерти» оказываются поставлены под сомнение. И еще одно различие: в мениппе-ях рефлективного традиционализма [Аверинцев 1981, 3] мертвый герой-рассказчик обычно творит суд над другими, в мениппеях эпохи художественной модальности [Бройтман 2001, 254] — над самим собой. Причем, хотя фигура вожатого возникает часто, почти никогда не возникает фигура Бога. Исключение составляет, например, «Улыбка вечности» (1920) Пера Лагерквиста, но и у него Бог лишен и всезнания, и всемогущества.
Отсюда возникает проблема финала, о которой специально размышляет Вейнманн в своем эссе. Если в романной традиции «естественной» финальной точкой являлись свадьба или смерть (по слову Пушкина — «должно своего героя / Как бы то ни было женить, / По крайней мере уморить» [Пушкин 1959, 630]), то в романе, где смерть героя уже произошла, а свадьба, по естественным причинам, невозможна, конец весьма проблематичен. Короткие тексты, те. рассказы, могут быть целиком построены на выяснении рассказчиком своего онтологического статуса и заканчиваться вспышкой понимания (как происходит это зачастую и в лирических стихотворениях с «голосом мертвого» [Зусева-Озкан 2017, 61-63]), но в романах это происходит редко, поскольку момент прозрения и осознания трудно «растянуть» на весь роман. Иногда финалом оказывается внутреннее примирение рассказчика со своей смертью (порой связанное с наказанием виновника оной), но чаще, напротив, финальная точка превращается в запятую и «странствие» героя получает знак (дурной) бесконечности.
Таким образом, ведение речи от лица мертвого рассказчика оказыва- ется в современной прозе явлением фундаментальным, кардинально влияющим на все остальные уровни структуры произведения и связанным с принципиальнейшими философскими проблемами модерности. С другой стороны, это повествование укоренено в очень архаических представлениях, которые в современной прозе получают особый поворот, обусловленный онтологическим пессимизмом, характерным для постмодернистской литературы, в чьих рамках постум-нарратив стал наиболее распространен. Лишь выявление генетических основ «повествования мертвеца» и детальный анализ его эволюции на протяжении исторических фаз поэтики, внимательнейшее сопоставление постум-нарративных текстов разных эпох, как и родственных постум-нарративу форм, могут дать настоящее представление о специфике такого рода литературы в XX и XXI вв.
Список литературы Повествование от лица мертвеца в современной прозе
- Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 3-14.
- Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 424-461.
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001. 320 с.
- Веселовский А. Н. Из истории романа и повести: Материалы и исследования. Вып. 1. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1886. 511 с.
- Деррида Ж. Страсти по «Фрейду» // Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск: Современный литератор, 1999. С. 403-456.
- Зусева-Озкан В.Б. «Голос мертвого» в лирике // Лирическая эволюция: к 70-летию Дарвина (Михаила Николаевича): сборник статей. М.: Эдитус, 2017. С. 53-65.
- Кундера М. Бессмертие. СПб.: Азбука-Классика, 2005. 384 с.
- По Э. А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970. 800 с.
- Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1959. 799 с.
- Симонид Кеосский // Античная лирика. М.: Художественная литература, 1968. (Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 4). С. 175-184.
- Фрейденберг О. М. Вступление к греческому роману // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1995. № 4(13). С. 78-85.
- Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература, 1998. 800 с.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
- Alber J. Unnatural Narrative // The living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University, 2013. URL: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/unnatural-narrative (дата обращения: 21.10.2021).
- Alber J. Forbidden Mental Fruit? Dead Narrators and Characters from Medieval to Postmodernist Narratives // The Routledge Companion to Death and Literature. New York: Routledge, 2020. Р. 42-52.
- Bennett A. Afterlife and Narrative in Contemporary Fiction. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, 2012. 228 p.
- Carrard Ph. Dead Man /and Woman Talking: Narratives from Beyond the Grave // The Routledge Companion to Death and Literature. New York: Routledge, 2020. P. 71-82.
- Richardson B. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 2006. 166 p.
- Weinmann F. "Je suis mort": Essai sur la narration autothanatographique. Paris: Seuil, 2018. 300 p.