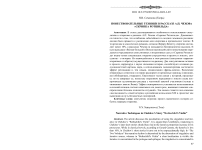Повествовательные техники в рассказе А.П. Чехова "Скрипка Ротшильда"
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности использования сингулятива и итератива в рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда». Доказывается гипотеза о том, что ослабление событийности в поздних чеховских рассказах должно было привести к увеличению доли итератива в прозаических текстах. В то время как в классических романах, согласно Жерару Женетту, итератив составляет менее 10%, в рассказах Чехова он оказывается беспрецедентно высоким. И если в рассказе «Володя большой и Володя маленький» ритм повествования определяется чередованием сингулятивных и итеративных сцен, в «Скрипке Ротшильда» видна четкая локализация: итератив сосредоточен в прологе и эпилоге, сингулятив - в истории. Их взаимодействие в этом рассказе (сингулятив «заражен» итеративом и обратно) осуществляется по-разному. Две сингулятивные вставки в прологе, коррелируя с двумя эпизодами истории, способствуют созданию редукционистской картины мира, а использованием псевдоитератива достигается эффект репликации и, тем самым, символизации «фразы-девиза». Включение итеративных сегментов в историю расширяет ее временные границы («внешние, или обобщающие, итерации»). Квазиэпилог тесно связан с историей, продолжает, но не завершает ее, поскольку итеративом переданная в эпилоге сцена воспроизводит кульминацию рассказа с частичной заменой участников («купцы и чиновники» вместо Якова). Эффект повторяемости усиливается использованием в сильной позиции счетного комплекса «по десяти раз», имеющего значение «неопределенно большое количество ситуаций». Тем самым ставится под сомнение «неслыханность» самой истории, а российская жизнь конца XIX в. предстает как вышедшая на путь бесконечных повторений.
Сингулятив, итератив, пролог, квазиэпилог, история, событие, маркеры итератива
Короткий адрес: https://sciup.org/149141257
IDR: 149141257 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-87
Текст научной статьи Повествовательные техники в рассказе А.П. Чехова "Скрипка Ротшильда"
Ослабление событийности в поздних рассказах А.П. Чехова разные исследователи объясняют невыделенно стью события из полного случайностей жизненного потока [Чудаков 1971, 146, 163, 165, 167]; чеховским представлением о том, что определяющими факторами действительности становятся «стагнация, выхолащивание жизни, оскудение и обесценивание коммуникации между людьми и фактическое их разъединение» [Щеглов 2012, 207]. Наша гипотеза заключается в том, что редукция события у Чехова должна привести к увеличению доли итератива в прозаических текстах.
В литературном и бытовом дискурсе повторяемость передается итеративом. В.И. Тюпа за границами нарратологического познания оставляет «итеративные высказывания описательного характера <...> в которых формируется, сохраняется и передается опыт повторяющихся состояний, регулярных действий, воспроизводимых ситуаций» [Тюпа 2016, 8]. Вместе с тем итеративное повествование, хотя и «не улавливает событийности бытия, но разворачивает перед мысленным взором реципиента некий фон событийности» [Тюпа 2016, 51].
В качестве особой повествовательной техники определяет итератив Жерар Женетт в работе «Повествовательный дискурс».
Рассматривая проблему нарративной повторяемости, Женетт оперирует двумя абстракциями - «повторяющееся событие» и «повторяющееся высказывание». На пересечении двух признаков («событие повторяется или нет, высказывание повторяется или нет») [Женетт 1998, 141] выстраиваются четыре типа отношений повторяемости:
1П/1И - «излагать один раз то, что произошло один раз» - сингулятив: («вчера я лег спать рано») [Женетт 1998, 142];
пП/пИ - «излагать п раз то, что произошло п раз» - сингулятив: («в понедельник я лег спать рано, во вторник я лег спать рано, в среду я лег спать

рано ит.д.») [Женетт 1998, 142];
пП/1И - «излагать один-единственный раз (или, скорее, за один единственный раз) то, что произошло п раз» («в понедельник я лег спать рано, во вторник и т.д.»). Повествование «прибегнет здесь к какой-либо сил-лептической формулировке, например: «все эти дни», или «всю неделю», или «ежедневно на этой неделе я ложился спать рано» (итератив) [Женетт 1998, 143];
Ш/пИ - «излагать п раз то, что произошло один раз (вчера я лег спать рано, вчера я лег спать рано, вчера я лег спать рано и т.д.)» - повторный тип повествования, предполагающий стилистические варианты изложения и вариации точки зрения [Женетт 1998, 142].
Сравнивая традиционное повествование и прозу модернизма, Женетт отмечает, что в классическом романе доля итератива составляет менее 10%, хотя у Флобера она значительно выше. В романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» итератив всегда преобладает: 115 страниц итератива против 70 сингулятива в «Комбре»; 91 против 103 в «Любви Свана»; 145 против ИЗ в «Жильберте» [Женетт 1998, 145].
Беспрецедентно высоким для чеховского творчества оказался процент итератива в рассказе «Душечка» - 63% и повести «Скучная история» -50%; в «Скрипке Ротшильда» - 27%, «Человеке в футляре» - 23%, «Попрыгунье» - 14%, «Володе большом и Володе маленьком» - 10%.
Признавая приблизительность этих показателей («точность здесь невозможна» [Женетт 1998, 145]), можно предположить, что полученный результат зависит не столько от техники подсчета (количество страниц у Женетта или количество печатных знаков у автора этой статьи), сколько от сложности определения границ итератива, образующего в ряде случаев смешанные формы с сингулятивным повествованием.
Так, в рассказе «Володя большой и Володя маленький» ритм повествования определяется чередованием сингулятива и итератива даже в пределах одного предложения, тогда как в «Скрипке Ротшильда» имеет место достаточно четкая локализация сингулятивных и итеративных сцен.
История заключена в итеративную рамку: техника итератива использована в прологе и эпилоге. «История» состоит из десяти эпизодов, за критерий выделения эпизода принимается единство места, времени и персонажей. Итератив включает в себя сингулятивные вставки, сингулятив -итеративные.
В прологе рассказа говорится об условиях существования городка «в режиме обыкновения и повторения» [Женетт 1998, 145]; итератив выступает здесь в функции, близкой описательной. При этом ни пролог, ни эпилог не представлены в своем классическом виде.
Повествовательная техника с самого начала осложнена «двуголосо-стью» (М.М. Бахтин), что косвенно подтверждается включением обстоятельств итератива. Ю.К. Щеглов комментирует первую фразу рассказа: «В этом смысле подозрителен уже сам городок, где «жили почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно (в царстве мертвых не умирают)» [Щеглов 1994, 84]. Можно отметить и другие проявления «непрямого говорения». Понять, почему маленький городок «хуже деревни», а не меньше, можно только приняв во внимание точку зрения Якова, который, хотя и «делал гробы хорошие, прочные» [Чехов 1986, 290], занимает весьма скромную нишу в «нижнем мире» чеховских героев. В таком случае выражение «хуже деревни» синонимично фразеологизму «хуже некуда». По этой же причине недостоверно упоминание о том, что в городке «жили <...> почти одни только старики» [Чехов 1986, 290]. Это не подтверждается существованием еврейского оркестра, играющего исключительно на свадьбах («в городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр» [Чехов 1986, 290]). Слово «обыкновенно» выступает здесь как маркер итератива, это обстоятельство узуальности, которое обозначает «эмпирически наблюдаемое, регулярное повторение ситуаций» [Храков-ский 1989, 21]. Отметим также выражение: «старики <...> умирали так редко, что даже досадно» [Чехов 1986, 290]. Обстоятельства интервала в норме устанавливают частотность ситуации по отношению к некоторой условной норме (часто - интервал ниже нормы; редко - выше нормы) [Храковский 1989, 21]. В данном случае попытка установить норму смертей для городка, в котором жили «почти одни только старики», выглядит абсурдной, если только это не «голос» самого Якова.
Также итеративом переданы в прологе другие обстоятельства жизни главного героя: «Яков делал гробы хорошие, прочные» [Чехов 1986, 290] (итератив передается глаголом несовершенного вида прошедшего времени); «Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день» [Чехов 1986, 290] (дополнительный знак итератива - обстоятельство интервала «иногда»); «Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо <...>» [Чехов 1986, 290]. Значение множественности передается здесь кратно-соотносительными конструкциями в форме сложноподчиненного предложения с временными придаточными [Храковский 1989, 22].
Пролог «Скрипки Ротшильда», как и прологи классических романов, представляет собой «символическую зону par excellence» [Щеглов 1996, 164]. Ю.К. Щеглов в качестве двух главных символов рассказа называет скрипку и гроб [Щеглов 1994, 86]. Однако итератив, который передает «устойчивые (ментальные и эмоциональные) состояния» [Храковский 1989, 20], уже в прологе способствует формированию параллельных символов «убытки» и «скрипка»: «Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче» [Чехов 1986, 291]. Та же соположенность «убытков» и «скрипки» отмечается в тексте постоянно:
«<.. > Когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог» [Чехов 1986, 291] / «Яков весь день играл на скрипке» [Чехов 1986, 291].
«Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки» [Чехов 1986, 297] / «Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке» [Чехов 1986, 297].
«Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам» [Чехов 1986, 298] / «И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка» [Чехов 1986, 298].
Во всех случаях в подтексте остается парадоксальное несоответствие ментального и эмоционального состояний героя, переданных итеративом и, значит, имеющих длительный характер.
Ю.К. Щеглов в качестве одного из символов рассказа приводит «фразу-гримасу», «фразу-девиз», из числа тех, что у Чехова служат «обычным признаком выхолощенного, автоматизированного состояния» [Щеглов 1994, 82]. «Признаться, не люблю заниматься чепухой», - произносит Яков, выдавая заказчикам детские гробы. Здесь «выражено утомленно-не-различающее отношение <.. .> к детям как к объектам рутинным, в массовом количестве прошедшим через руки Бронзы за годы косности и душевного сна» [Щеглов 1994, 82]. В данном случае Чехов использует технику псевдоитератива. Женетт понимает под псевдоитеративом «типичную фигуру нарративной риторики, которую не следует понимать буквально, а как раз наоборот: повествование, буквально утверждающее: “это происходит все время”, следует понимать фигурально: “все время происходило нечто в этом роде, одной из реализаций которого является изображаемое событие”» [Женетт 1998, 148]. Очевидно, что Бронза не каждый раз произносил одну и ту же фразу, отдавая детские гробы, однако использованием псевдоитератива достигается эффект репликации и, тем самым, символизации.
Пролог включает два сингулятивных сегмента, это тот случай, когда «сингулятивная сцена с иллюстративной функцией подчинен[а] некоторому итеративному развертыванию» [Женетт 1998, 166]. Ссора Ротшильда и Якова Бронзы («<.. .> и раз даже хотел побить его» [Чехов 1986, 291]) подтверждает антисемитизм гробовщика; история со смертью полицейского надзирателя, который «уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер» [Чехов 1986, 291], упомянута как пример «убытков». Что касается роли названных эпизодов в сюжете, то они подтверждают правило, сформулированное И.П. Смирновым для коротких нарративов: «Акция, характерная для новеллы, не может быть повторена одним и тем же персонажем с разными итогами» [Смирнов 1993, 6]. Две ссоры Якова с евреем-музыкантом заканчиваются одинаково: «хотел побить его» [Чехов 1986, 291] / «бросился на него с кулаками» [Чехов 1986, 295]. Рассказ о несостоявших-ся заказах на изготовление гробов (сначала для умершего полицейского надзирателя, потом - для умершей жены) завершается подсчетом убытков: «Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб при- шлось бы делать дорогой, с глазетом» [Чехов 1986, 291]; «Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку: “Марфе Ивановой гроб - 2 р. 40 к.”» [Чехов 1986, 294]. Созданию редукционистской картины мира способствует, таким образом, внедрение сингулятивных вставок в пролог.
История смерти Марфы и духовного воскресения Бронзы (1-10 эпизоды) передана сингулятивом и имеет определенную временную точку отсчета: «Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла» [Чехов 1986, 291]. «Поворотом и катарсисом» выступает «решительный сдвиг в сторону обретения утраченной личности и востребования морального существа» [Щеглов 1994, 91]. При этом воспоминания о жизни с Марфой, приведшие к осознанию вины перед ней, переданы в технике итератива. Это так называемые «внешние, или обобщающие, итерации»; «итератив как бы открывает окно во внешнюю длительность повествования» [Женетт 1998, 145]. В этом случае время, которое представлено в итеративных сегментах, шире, чем время истории.
1-й эпизод.
«Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха» [Чехов 1986, 292].
5-й эпизод.
«Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал <...> А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким, заботливым выражением» [Чехов 1986,295].
Эффект повторяемости усиливается за счет лексических эквивалентностей: «что за всю свою жизнь он <...> ни разу не приласкал ее, не пожалел» / «что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал».
В обоих примерах итератив, передающий действия, регулярно совершаемые, маркирован обстоятельством цикличности «всякий раз», а действия не совершаемые («ни разу» не приласкал, не пожалел, не догадался) - обстоятельством всеобщности «за всю жизнь». Глаголы совершенного вида используются, таким образом, в итеративной функции, фиксируя привычность отсутствия эмоционального отклика на постоянную заботу Марфы.
В седьмом эпизоде знаком итератива выступает счетный комплекс «раз пять»: «Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке» [Чехов 1986, 297]. Эффект приблизительного счета достигается постановкой количественного числительного после существительного и передает полубредовое состояние Якова, нечетко воспринимающего происходящее.
Загадочным выглядит эпилог рассказа, где сцена кульминации (Яков и Ротшильд вместе плачут о скорбях человеческого существования) многократно репродуцируется.
Рассматривая типичный эпилог чеховских новелл последнего периода, Щеглов определяет его как «картину жизни, остановившейся в своем развитии и вышедшей на путь циклических повторений (такой финал имеют, помимо “Ионыча”, “Анна на шее”, “Учитель словесности”, “Володя большой и Володя маленький”, “Три года”, “Моя жизнь”, “Скрипка Ротшильда”, “Душечка” и др.)» [Щеглов 2012, 238].
В эпилоге дается обычно «изображение событий и дальнейших судеб героев после завершения развязки и разрешения основного конфликта произведения» [Юртаева 2008, 309]. Однако в «Скрипке Ротшильда» эпилог тесно связан с историей, продолжает, но не завершает ее, поскольку итеративом переданная в эпилоге сцена воспроизводит кульминацию рассказа с частичной заменой действующих лиц («купцы и чиновники» вместо Якова).
9-й эпизод.
«Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: “Ваххх!.. ”» [Чехов 1986, 298].
Эпилог.
«Но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: "Ваххх!.. ”» [Чехов 1986, 299].
Замену сингулятива итеративом иллюстрируют лексические эквивалентности: «закатил глаза» / «закатывает глаза»; «проговорил: "Ваххх!.. ”» / «говорит: "Ваххх!.. ”».
Эффект «дурной завершенности» жизни [Щеглов 2012, 207] усиливается использованием счетного комплекса «по десяти раз» в сильной позиции текста: «И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз» [Чехов 1986, 299] (выражения типа «10 раз», «100 раз», «1000 раз», включающие число, кратное десяти, имеют общее значение «неопределенно большое количество ситуаций» [Храковский 1989, 51]).
Переданная итеративом в эпилоге сцена ставит под сомнение «неслы-ханность» самой истории: как заметил Женетт, «повторяемое событие» есть «в некотором смысле отсутствие события» [Женетт 1998, 152]. В этом случае эпилог подтверждает, что российская действительность конца
XIX в. предстает в «Скрипке Ротшильда» как вышедшая на путь бесконечных повторений и «не предполагающая неожиданностей» [Щеглов 1994, 92].
Список литературы Повествовательные техники в рассказе А.П. Чехова "Скрипка Ротшильда"
- Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Фигуры: в 2 т. Т. 2. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. С. 60-280.
- Смирнов И.П. О смысле краткости // Русская новелла. Проблемы теории и истории. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1993. С. 5-12.
- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 c.
- Храковский В.С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, 1989. С. 5-53.
- Чехов А.П. Собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1986. 528 с.
- Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 292 с.
- Щеглов Ю.К. Две вариации на тему смерти и возрождения: "Дама с собачкой" и "Скрипка Ротшильда" Чехова // Russian Language Journal / Русский Язык. 1994. Vol. 48. № 159/161. P. 79-102.
- Щеглов Ю.К. Из поэтики Чехова ("Анна на шее") // Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. М.: АО Издательская группа "Прогресс", 1996. С. 157-188.
- Щеглов Ю.К. Молодой человек в дряхлеющем мире (Чехов, "Ионыч") // Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 207-240.
- Юртаева И.А. Эпилог // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Intrada, 2008. С. 309-310.