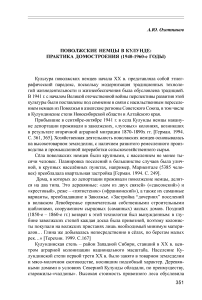Поволжские немцы в Кулунде: практика домостроения (1940-1960-е годы)
Автор: Охотников А.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521468
IDR: 14521468
Текст статьи Поволжские немцы в Кулунде: практика домостроения (1940-1960-е годы)
Культура поволжских немцев начала ХХ в. представляла собой этнографический парадокс, поскольку модернизация традиционных технологий жизнедеятельности и жизнеобеспечения была обусловлена традицией. В 1941 г. с началом Великой отечественной войны перспективы развития этой культуры были поставлены под сомнение в связи с насильственным переселением немцев из Поволжья в азиатские регионы Советского Союза, в том числе в Кулундинские степи Новосибирской области и Алтайского края.
Прибывшие в сентябре-октябре 1941 г. в села Кулунды немцы накануне депортации проживали в заволжских, «луговых» колониях, возникших в результате вторичной аграрной миграции 1870-1890х гг. [Герман. 1994. С. 361, 365]. Хозяйственная деятельность поволжских немцев основывалась на высокотоварном земледелии, с наличием развитого ремесленного производства и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья.
Сёла поволжских немцев были крупными, с населением не менее тысячи человек. Планировка поселений в большинстве случаев была уличной, в крупных населённых пунктах, например, Мариентале (5385 человек) преобладала квартальная застройка [Герман. 1994. С. 249].
Дома, в которых до депортации проживали поволжские немцы, делятся на два типа. Это деревянные: «дом из двух связей» («саксонский») и «крестовый», реже – «пятистенок» («франконский»), а также их саманные варианты, преобладавшие в Заволжье. «Застройка “дочерних” поселений в волжском Левобережье примечательна собственными строительными шаблонами, сооружением сырцовых (саманных) жилых домов. Поздний (1850-е – 1860-е гг.) возврат к этой технологии был вынужденным: в глубине заволжских степей каждая доска была привозной, поэтому колонисты покупали на волжских пристанях лишь необходимый минимум материалов… Глина же добывалась непосредственно в сёлах, по берегам малых рек…» [Терехин. 1999. С.167]
Кулундинская степь – район Западной Сибири, ставший в ХХ в. центром аграрной колонизации национального масштаба. Население Ку-лундинской степи первой трети ХХ в. было занято в товарном земледелии и мясо-молочном скотоводстве, носившим подсобный характер. Деревянными домами в условиях Северной Кулунды обладали, по преимуществу, старожилы-«чалдоны». Высокая стоимость привозного леса обусловила обращение аграрных переселенцев к изготовлению строительного материала из грунтового сырья (производство саманного кирпича, использование пластов дёрна), к актуализации (украинские и немецкие колонисты), либо заимствованию (поселенцы-великороссы) технологий литья и плетения при постройке жилых и хозяйственных сооружений.
Каждый кулундинский район осенью 1941 г. принял по 500-540 семей немцев Поволжья (2300 – 2500 человек). [Герман. 1994. С. 366-367] Расселение вынужденных мигрантов производилось дисперсным образом (от 2 до 12 семей на населённый пункт). Один-два поволжских колхоза распределяли на 40-50 колхозов района вселения.
Депортированные поволжские немцы стали объектом советских аграрных экспериментов и насильственной трансформации различных сфер сельской жизни в той же степени, что и остальное российское крестьянство. Они были несвободны, как и местные колхозники. И те, и другие почти ничего не получали на трудодни, принудительно подписывались на займы, выполняли план при отсутствии основных работников, мобилизованных государством, и не могли покинуть район проживания без санкции начальства. Однако жизнь поволжских немцев была отягощена последствиями депортации и антинемецкой пропаганды, а также призывом осенью 1942 г. женщин трудоспособных возрастов.
Поволжские немцы, принадлежа к лучшим крестьянам России начала ХХ в., были обречены на презрение, нищету и сиротство в местах ссылки, либо на изнурительную работу в трудармии. Следствием этих и ряда других факторов становилась архаизация их изначально высоко технологичной модернизированной аграрной культуры, частью которой являлись практики домостроения.
В Сибири депортированных немцев ожидало ветхое жильё, оставленное хозяевами (местные жители не понимали, почему новосёлы должны жить лучше старожилов), а чаще – подселение в домик - пластянку (полуземлянку со стенами из пластов дерна) или саманную избушку, в семьи многодетных местных крестьян. Хуже всего было тем, кого селили в Дома культуры – как правило, ветхие саманные сараи, зачастую без печки.
Первым отдельным жильём ссыльного поволжского немца на кулундин-ской земле стала пластянка - полуземлянка из пластов дёрна, крытая камышом и обмазанная местной глиной-«беляком». Как правило, площадь такого жилища составляла не более 18 кв. метров; возводилась пластянка «помочью» (коллективной помощью) за день работы.
Для поволжско-немецких семей в 1942-1944 гг. серьёзным достижением являлось вступление в местный колхоз: т.к. колхозная администрация предоставляла жильё, землю под огород и тягло для её обработки. «Добрые председатели», согласно устной традиции, не дали «пропасть с голоду» основной массе ссыльного, депортированного и эвакуированного населения кулундинской деревни – семьям, лишенным кормильцев и находящихся до 1944 г. под фрагментарной опекой государства.
Более обстоятельному обоснованию поволжского немца на сибирской земле вплоть до середины 1950-х гг. препятствовала нищета. Для большинства информантов процесс обеспечение домохозяйства картофелем, появление личного скота и индивидуальной зимней одежды начался в 19481949 гг., когда из трудармии начали возвращаться мужчины, а поволжские немцы начала 1930-х гг. рождения достигли возраста работников.
«Целинные» инициативы Советского государства 1950-х гг. и отмена спецпоселения дали возможно сть проявить себя и заработать специалистам – агрономам, трактористам, зоотехникам из числа депортированных, занятых ранее на «разных работах». Однако, первые «немецкие дома» и усадебные комплексы, ставшие символом поволжско-немецкого присутствия в северокулундинских деревнях, появляются лишь в начале 1960-х гг.
Протяженность периода становления «немецкого» домостроения в Ку-лунде была обусловлена рядом причин, в том числе неполной реабилитацией поволжско-немецкого населения СССР. Информанты 1920-1930-х гг. рождения упоминают о нежелании родителей оставаться в Сибири. Зрелым и пожилым людям языковая адаптация в русскоязычных сёлах давалась тяжело, публичное общение на немецком осуждалось, унижения от переносились болезненно. Поколение сорока-пятидесятилетних, прошедших депортацию, боялись быть немцами, а другими быть не могли. Кроме того, хорошо знакомые с конфискационными практиками, люди страшились прослыть зажиточными. Жилищем немцев в кулундинских селах долгое время оставались ветхие саманные избушки на низинных участках, за бесценок отданные местным населением.
Создание поволжско-немецких усадеб на территории Северной Ку-лунды в начале 1960-х гг. оказалось возможным силами 30-летних людей, интегрированных и в культуру предков, и в культуру сибирского села (при постройке домов «помочь» им оказывали и немецкие родственники, и русские соседи). Строители «немецких домов» были профессионально и социально состоявшимися людьми. Это поколение поволжских немцев твердо помнило, что настоящий дом – четырехкамерная постройка: Kichstub, Saale, Schloffstub, Kinderstub.
Итогом этнокультурной адаптации поволжских немцев в условиях Западной Сибири стало оформление специфического хозяйственно-культурного комплекса в пределах домохозяйства-усадьбы – «немецкого дома». На территории Кулундинской степи жилище поволжского немца 1960-х гг. представляло собой «крестовый» дом из местного строительного материала – «камышита» с четырёхскатной крышей – результат заимствования, синтеза и рационализации строительных технологий славянского населения. Традиционной (разомкнутое на улицу каре) осталась планировка надворных построек с обязательной летней кухней. Во всём остальном «немецкий дом» повторял хозяйственный опыт групп коренного земледельческого населения Дом немца превосходил жилище славянина-соседа размерами (в среднем – 80 кв.м. против 50-60 кв.м.), качеством благоустройства и текущим обслуживанием.
В эстетическом отношении фасад «немецкого дома» уступал убранству славянского жилища. Наружные дощатые стены и палисадник покрывали синей, либо зелёной краской, наличники украшал простой геометрический орнамент. Декор «немецкого дома» традиционно дополняли «фасадные дощечки», извещавшие о несении домохозяином каких-либо обязанностей перед сельским обществом. Подобные дощечки когда-то вывешивались на домах в Поволжье. В отличие от прототипа, фасадные доски в сибирских селах содержали одну и ту же надпись: «Дом образцового порядка».
В определенном смысле образцовый «немецкий дом», можно рассматривать как знак немецкого этнокультурного присутствия на территории Западной Сибири, один из способов преодолеть последствия принудительной миграции, сказать государству и соседям «Я есть».
Бывшие спецпоселенцами, поволжские немцы ориентировались на существование в рамках переселенческих сообществ. В реальных условиях кулундинского полиэтничного села модернизированные элементы традиционной поволжско-немецкой культуры постепенно утрачивали роль этнических маркеров, превращаясь в элементы маргинализованного сельского быта. Сыграли свою роль и темпы советской модернизации сельской жизни: кулундинскому крестьянину в 1970-е гг. стало выгоднее и проще «получить» готовый «колхозный» дом, чем возводить нечто самобытное. Но вместе с тем, во второй половине ХХ в. локальные культуры российских немцев, лишенных доступа к образовательной вертикале, публичного использования языка и представительских институтов, всё меньше помогали адаптироваться в возрастающем информационном потоке урбанизированного советского общества 1960-1970-х гг. Немецкое сообщество Западной Сибири, оставаясь преимущественно сельским, сохраняло многие поведенческие и бытовые стандарты, в том числе и в сфере обустройства дома.