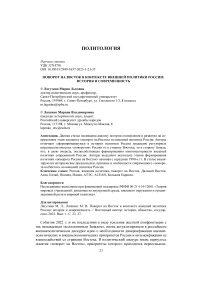Поворот на восток в контексте внешней политики России: история и современность
Автор: Лагутина М.Л., Лапенко М.В.
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена анализу истории становления и развития на современном этапе концепта «поворот на Восток» во внешней политике России. Авторы отмечают сформировавшуюся в истории политики России традицию регулярных внешнеполитических «поворотов» России то в сторону Востока, то в сторону Запада, что, в свою очередь, поспособствовало формированию многовекторности внешней политики современной России. Авторы выделяют несколько этапов формирования политики «поворота России на Восток» начиная с середины 1990-х гг. В статье анализируются исторические предпосылки, причины и особенности современного «поворота на Восток» во внешней политике России.
Россия, внешняя политика, поворот на восток, дальний восток, азия, китай, япония, индия, атэс, асеан, большая евразия
Короткий адрес: https://sciup.org/148327278
IDR: 148327278 | УДК: 327(470) | DOI: 10.18101/2949-1657-2023-1-23-37
Текст научной статьи Поворот на восток в контексте внешней политики России: история и современность
Лагутина М. Л., Лапенко М. В. Поворот на Восток в контексте внешней политики России: история и современность // Восточный вектор: история, общество, государство. 2023. Вып. 1. С. 23–37.
События 2022 г. и их последствия в виде усиления жесткой конфронтации с так называемым «коллективным Западом», вновь актуализировали в российском внешнеполитическом дискурсе идею о необходимости диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов России и интенсификации ее взаимодействий со странами Востока. В политический дискурс вновь вернулось понятие «поворот на Восток», приоритеты которого приходится переосмысли- вать с учетом новых геополитических условий, в которых оказалась современная Россия.
При этом необходимо отметить, что данный концепт не является новым для российской внешней политики. Геополитическое положение России на протяжении практически всей ее истории способствовало ее периодическим «поворотам» то в сторону Европы, то в сторону Азии. Это нашло свое отражение и в официальной символике РФ — двуглавом орле, смотрящем одновременно на Запад и Восток. Поэтому и нынешний «поворот на Восток» не следует, на наш взгляд, воспринимать как некую новую компоненту российской внешней политики, а, скорее, как ее традиционную составляющую.
Более того, определяя себя как великую державу, стремящуюся «сохранить и приумножить свое влияние на глобальном уровне» [1, c. 7], Россия просто не может себе позволить проводить одностороннюю внешнюю политику в условиях современного глобального развития. Поэтому концепцию «поворота России на Восток» следует рассматривать как одну из (!) ключевых концепций, лежащих в основе современной внешней политики России. Но здесь возникает ряд важных вопросов. Во-первых, «поворот» в сторону какого «Востока» мы имеем в виду: Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), Ближнего Востока? Во-вторых, что означает «поворот» во внешней политике России? Означает ли это полный отказ от западного вектора или все же речь идет о диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических связей? В-третьих, если мы исходим из того факта, что «поворот России на Восток» — это традиционная составляющая российской внешней политики, то возникает вопрос: каково место так называемого «восточного вектора» в современной внешней политике РФ? К сожалению, несмотря на многочисленные публичные заявления официальных лиц и экспертные публикации, ответов на эти вопросы в них не найти.
« Поворот России на Восток»: исторические традиции
На протяжении практически всей истории России благодаря ее географическому расположению между Западом и Востоком для нее актуален вопрос о ее идентичности: азиатской или европейской. Споры эти находили свое отражение на разных исторических этапах в формировании различных политикофилософских парадигм (славянофильство и западничество) и российских интеллектуальных традиций (западники, государственники, и сторонники цивилизационного подхода [23]), лежащих в основе российской внешней политики и т. д.
Однако, как уже отмечалось выше, в официальной символике России закреплен образ сильной державы, имеющей как азиатскую, так и европейскую идентичность. В начале XX в. в рамках идеологии классического евразийства был предложен концепт «Россия — Евразия» как некой самобытной цивилизации, соединяющей в себе элементы Востока и Запада. В своих трудах, изучив особенности географии, религии, истории, культуры и философии, евразийцы определяют Россию как особый «срединный мир» между Европой и Азией. Они отказываются признавать универсальность европейской культуры, уповая на то, что «мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими» [8, c. 31], и на то, что корнями Россия уходит к Востоку, а не к Западу. Тем самым евразийцы провозгласили «исход к Востоку».
На практике это часто приводило к качественным изменениям во внешнеполитическом курсе России, ее «поворотам» или даже «разворотам», к временному сближению то с Востоком, то с Западом. В первом десятилетии 2000-х гг. этот дуализм нашел воплощение в идее, распространенной главным образом среди российского академического сообщества, о том, что Россия представляет собой Евро-тихоокеанскую державу, успешно комбинирующую свои стратегические интересы как в Европе, так и в АТР: «Россия — евротихоокеанская держава, которая может непосредственно контактировать со всеми значимыми в экономическом, технологическом, политическом, военном, культурном плане игроками мира — и поддерживать должный баланс между ними в своей внешней политике» [17, 18]. В экспертный лексикон также вошел термин «двухконтинентальность» России [12, 15] — принадлежность Европе и Азии одновременно, ставшая своего рода, по мнению авторов этого термина, «особостью» внешней политики России.
Формирование российского государства происходило главным образом как европейского государства, перенявшего византийские традиции. Однако в дальнейшем, как отмечает российский эксперт Е. В. Колдунова, «хотя Россия оставалась восприимчивой к нормам европейской цивилизации и моделям дипломатии, ее уникальные особенности — с точки зрения географии, истории и полиэтнического состава <…> отличали ее от Европы» [20, с. 379]. Стремясь стать европейским государством, Россия в то же время всячески старалась обеспечить себе статус великой державы, независимой и самостоятельной в своей внешней политике.
Что же касается истории отношений России со странами Востока, то она имеет длительный период формирования и интенсивного развития. Монгольское нашествие в XIII в., с одной стороны, имело самые негативные последствия для развития российской государственности, одним из результатов стало отставание Руси от Запада, но, с другой стороны, способствовало развитию контактов Руси со странами Ближнего Востока и Китаем, сыграв важную роль в ориентированности России на Восток. Укрепление и централизация российской государственности способствовали формированию постоянных отношений с Персией, Османской империей и Китаем.
Ярким примером «поворота России на Запад» является политика Петра Великого, символом чего стало основание новой столицы — г. Санкт-Петербурга — «окна в Европу». Считается, что именно реформы Петра I укрепили основы восприятия России как европейской державы. Однако даже Петр I в период своего правления продолжил завоевание Азии (Средняя Азия и Сибирь, Алтай, где было установлено множество фортов), тем самым отдавая дань важности восточному направлению российской политики.
Затем в период XVIII–XIX вв. Россия активно продвигалась на восток, реализуя великую цивилизационную миссию: «Русский человек, идя всё дальше на Восток, не просто раздвигал границы, но коренным образом менял качественные характеристики своего государства» [19]. Россия в это время активно развивала дипломатические контакты, направляла культурные, исследовательские и торговые миссии в новые страны, такие как Япония, Корея, Сиам и др. Расширение внешнеполитических контактов привело к необходимости институциализации данного направления, и в 1819 г. был создан Азиатский департамент в составе Министерства иностранных дел Российской империи. Началась подготовка новых дипломатических кадров для работы в странах Востока, а востоковедение получило свое развитие как отдельная отрасль гуманитарного знания. По мере закрепления России на Дальнем Востоке и международно-правового определения восточных границ Российской империи с соседними государствами (период с середины XIX в.) восточное направление стало важнейшей составляющей всей внешней политики России [9, c. 125].
В советское время отношения с Востоком были обусловлены идеологической повесткой и биполярной конфронтационностью, носили противоречивый характер, но продолжали развиваться, Советский Союз оказал существенное влияние на развитие национально-освободительного движения в странах Азии.
В качестве одного из исторических примеров «поворота на Восток» в советский период можно привести речь М. С. Горбачева во Владивостоке в 1986 г., когда он, несмотря на его в большей степени прозападную ориентацию, предпринял попытку расставить приоритеты в отношениях СССР со странами АТР и провозгласить курс на интеграцию с тихоокеанскими экономиками: «Формулируя платформу СССР по вопросам, касающимся АТР, М. С. Горбачев, прежде всего, остановился на вопросах двусторонних отношений со странами региона. Он готов расширять эти отношения по всем направлениям. Сугубо важны с этой точки зрения отношения с Китаем, от которых многое зависит в мировом развитии. Отметив, что в СССР с пониманием и уважением воспринимают курс китайского руководства на модернизацию страны, М. С. Горбачев высказался за углубление всестороннего сотрудничества двух стран»1. В результате в 1987 г. была принята «Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 г.», предполагавшая экономическое развитие Дальнего Востока. Однако после распада СССР на пару лет во внешней политике новой России был провозглашен прозападный курс А. В. Козырева, ориентированный исключительно на развитие отношений с США. Декларация 1986 г. о «повороте советской экономики на Восток» [6, c. 22–23] была аннулирована после 1991 г. в угоду западноцентристской модели реформ. Отношения со странами АТР в тот период рассматривались также сквозь призму отношений с США: «принципиально важны сбалансированные, стабильные и по возможности не зависящие друг от друга отношения со всеми государствами АТР, особенно с такими ключевыми, как США, Китай и Япония»2. Тем не менее, уже к середине 1990-х гг. Министерство иностранных дел РФ возглавил Е. М. Примаков, который выступил за формирование многополярного мирового порядка и провозгласил многовекторность как основу внешней политики России, заложив фундамент формирования восточного вектора внешней политики новой России.
Таких примеров, доказывающих факт присутствия постоянных «поворотов» во внешней политике России на разных исторических этапах, можно привести множество. Все они лишь подтверждают, на наш взгляд, традицию многовекторности во внешней политике России, которая при этом не исключает какие-либо временные «повороты» или даже «развороты» в региональных приоритетах РФ.
«Поворот России на Восток» на современном этапе
Если говорить о современном этапе «поворота России на Восток», то вопреки широко распространившемуся мнению, что он был обусловлен последствиями первого украинского кризиса 2014 г. и кризисом в отношениях со странами Запада, еще в середине 1990-х гг. при Е. М. Примакове на посту министра иностранных дел РФ были заложены основы современной внешней политики РФ в целом и в частности произошло «концептуальное оформление восточного вектора внешней политики современной России» [1, c. 9]. Более того, важно отметить, что «поворот на Восток» изначально был обусловлен не кризисом в отношениях России с Западом, а двумя объективными факторами: «необходимостью налаживания связей с регионом, который постепенно становится центром мировой экономики и политики, а также с решением стратегической задачи развития России — подъемом ее сибирских и дальневосточных регионов» [10]. Сегодня «поворот на Восток» определяется как «понятие многоплановое, включающее в себя и поиск новых рынков, и определение своего места в мире, и общую геополитическую переориентацию» 1 . Здесь важно поднять вопрос о содержательном наполнении самого понятия «Восток»: какие страны включены в данный концепт? Об этом пишет российский эксперт Я. В. Лексютина, отмечая, что понятие «Восток/Азия» в контексте концепции «поворота на Восток» ограничивается странами Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая из списка страны Ближнего Востока и Центральной Азии [22]. Забегая вперед, можно дополнить, что в контексте «поворота на Восток» после 2022 г., на наш взгляд, идет объективное переосмысление этого подхода и мы наблюдаем постепенное включение в концепт «Восток» и стран Ближнего Востока, и стран Центральной Азии. В частности, это просматривается на примере интерпретации региональных приоритетов России на Востоке в разных редакциях Концепции внешней политики РФ.
Представляется возможным, на наш взгляд, выделить несколько этапов в развитии политики «поворота России на Восток» на современном этапе: 1) середина 1990-х — 2000 г.; 2) 2000 — 2014 гг.; 3) 2014 — 2022 гг.; 4) после 2022 г.
Что касается первого этапа (середина 1990-х — 2000 г.) — «поворота на Восток» Е. М. Примакова, то следует отметить, что «линия Примакова заключалась в проведении сбалансированной внешней политики, направленной на поддержание дружественной атмосферы в отношениях с Западом, при одновременном развитии сотрудничества с азиатскими странами и прежде всего с Китаем и Индией» [1, c. 9–10]. Не предполагался полный «разворот» России в сторону Азии. Однако в результате появилась идея стратегического треугольника Россия — Индия — Китай (РИК), которая легла в основу создания БРИКС в будущем.
В 1990-е гг. двусторонние отношения с Китаем, Республикой Корея и Японией заметно улучшились, но не потерявший своей актуальности спор о принадлежности контролируемых Россией Курильских островов привел к тому, что долгожданного прорыва в отношениях с Японией не произошло. На этом фоне в политике России в Восточной Азии все больше стали доминировать двусторонние связи с Китаем, результатом чего стало придание российско-китайским отношениям статуса «стратегического партнерства» в 1996 г. В 1996 г. Россия также получила статус партнера по диалогу в АСЕАН, в 1998 г. Россия стала членом АТЭС, что открыло перед Россией новые возможности на восточном направлении. В 1998 г. также был создан бизнес-клуб АТЭС. Как мы видим, в приведенной ниже таблице в редакции 2000 г. Концепции внешней политики РФ в качестве региональных приоритетов на восточном направлении (что важно, они были детализированы, в отличие от Концепции 1993 г.) в качестве приоритетных указаны конкретные региональные организации — АТЭС, АСЕАН, ШОС, а также конкретные страны — Китай, Индия и Япония. Страны АТР рассматривались как источники экономического роста, что вызывало интерес у России в тот период. Россия же таким образом сделала заявку на активную роль в интеграционных процессах в АТР, взяла «на себя ведущую роль стратегического партнера, важного рынка и источника сырья и технологий» [2, c. 15]. В дальнейшем внешняя политика В. В. Путина стала продолжением тех основ, которые были заложены Е. М. Примаковым. Это видно на примере анализа текстов разных редакций Концепции внешней политики РФ.
На втором этапе (2000–2014 гг.) шло постепенное формирование и укрепление восточного вектора внешней политики РФ и осознание в этом контексте насущной необходимости развития регионов Дальнего Востока. Так, в 2000 г. президент В. В. Путин на совещании по проблемам развития Дальнего Востока и Забайкалья заявил: «Если в ближайшее время не предпримем реальные усилия по развитию Дальнего Востока, то русское население через несколько десятилетий будет в основном говорить на японском, китайском и корейском языках»1.
Тем не менее в этот период продолжилось укрепление связей с Китаем и в 2001 году Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и со-трудничестве2, а в 2005 г. наконец были разрешены давние пограничные споры между двумя странами. При этом следует отметить, что на данном этапе развитие двусторонних связей шло поэтапно, что было обусловлено, с одной стороны, тем, что в торгово-экономической сфере Китай был больше заинтересован в тесных связях с США, а Россия, в свою очередь, с осторожностью относилась к китайским инвестициям в стратегические отрасли.
В 2008 г. президентом Д. А. Медведевым была принята новая редакция Концепции внешней политики РФ. В тексте этой редакции Концепции меняется ри- торика России в отношении ее места в системе международных отношений, отмечается важность роли России в построении нового мирового порядка, окончательный отказ от признания однополярного мирового порядка во главе с США. В этом контексте Россия начинает искать новых партнеров, разделяющих ее видение многополярного мира как альтернативы американской однополярности. АТР снова был представлен как один из важнейших внешнеполитических приоритетов многовекторной российской политики, отдельно отмечены такие страны, как Индия и Китай, а также Юго-Восточная Азия. Одной из внешнеполитических задач того периода стало стремление России наладить постоянный стратегический диалог с США, Японией и Китаем в регион, «чтобы предотвратить формирование трехстороннего американо-японско-китайского регионального партнерства без России» [2, c. 15]. На этом этапе Россия продолжила свою активизацию в интеграционных процессах в регионе Восточной Азии. Так, в 2009 г. заработало постоянное представительство РФ в АСЕАН, с 2010 г. ежегодно проводятся консультации министров экономики Россия — АСЕАН.
Важным этапом на пути укрепления восточного вектора российской внешней политики России стал 2012 г., когда Россия стала страной, принимающей саммит АТЭС во Владивостоке. Тем самым официальные российские власти дали понять мировому сообществу, что Россия рассматривает свое полноправное членство в АТР как необходимое и стратегически важное. С другой стороны, Россия видела в странах АТР потенциал для улучшения своего экономического положения, развития своих восточных регионов путем их интеграции в рынки АТР. Организация и проведение мероприятия сопровождались активной дискуссией о важности Азии в современной политике России на уровне официальных властей и экспертного сообщества. Так, в 2012 г. был опубликован указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», в тексте которого подчеркивается актуальность развития сотрудничества и интеграции в АТР, создание в АТР новой архитектуры безопасности и сотрудничества, стратегическое партнерство с Индией и Китаем, взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией и другими ключевыми государствами АТР1. Далее в своей предвыборной статье того же года «Россия и меняющийся мир» В. В. Путин писал о том, что необходимо поймать «китайский ветер» в «паруса» российской экономики2. Все это укладывалось в общемировые тенденции смещения центра мировой экономики и политики в АТР, превращение Азии в самостоятельный политический и экономический субъект международных отношений.
В тот период «поворот на Восток» был провозглашен как проект «на стыке внутренней и внешней политики» [1, c. 6]: изначально идея состояла в приоритетном развитии регионов Сибири и Дальнего Востока России, а в дальнейшем стал рассматриваться как внешнеполитический концепт с целью поиска допол- нительных источников модернизации российской экономики и диверсификации источников новых технологий. Развитие Сибири и Дальнего Востока рассматривалось как необходимый фактор для повышения роли России в АТР, интенсификации экономических и политических связей со странами региона. Данная тенденция во внешней политике РФ находила поддержку и со стороны политиков стран АТР, поскольку они считали, что «поворот на Восток» служит социальноэкономическому развитию не только самой России, но и соответствует интересам стран АТР [16].
|
Год |
Название документа |
Региональные приоритеты во внешней политике РФ |
|
1993 |
Концепция внешней политики Российской Федерации |
Содружество независимых государств (СНГ), Соединенные Штаты Америки, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная и Западная Азия; Ближний Восток, Африка, Латинская Америка |
|
2000 |
Концепция внешней политики Российской Федерации |
Содружество независимых государств (СНГ); отношения с европейскими государствами; Европейский союз; НАТО; США; Азия (АТЭС, АСЕАН, ШОС, Китай, Индия, Япония) ; Ближний Восток; Африка; Центральная и Южная Америка |
|
2008 |
Концепция внешней политики Российской Федерации |
Содружество независимых государств (СНГ); Союзное государство с РБ; Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС); Европейский союз; НАТО; США; Канада; Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) ; Индия; Китай; Юго-Восточная Азия ; Ближний Восток; Африка; Латинская Америка |
|
2013 |
Концепция внешней политики Российской Федерации |
Содружество независимых государств (СНГ); Союзное государство с РБ; Евразийский экономический союз (ЕАЭС); Европейский союз; Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) ; США; Евро-атлантический регион; Африка; Ближний Восток; Арктика; Антарктика |
|
2016 |
Концепция внешней политики Российской Федерации |
Содружество независимых государств (СНГ); Союзное государство с РБ; Евразийский экономический союз (ЕАЭС); Европейский союз; НАТО; США; Арктика; Антарктика; Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР); ЮгоВосточная Азия (АСЕАН); Китай; Индия; Монголия; Япония; Республика Корея; Вьетнам и др. страны АТР; Ближний Восток; Африка; Латинская Америка |
Начало третьего этапа (2014–2022 гг.) оказалось обусловлено событиями первого украинского кризиса 2014 г. Несомненно, события на Украине оказали влияние на развитие восточного направления во внешней политике России, во всяком случае на уровне официальной политической риторики. Во многом сим- волическим событием начала этого этапа в развитии политики «поворота на Восток» стал визит В. В. Путина в Шанхай весной 2014 г., в результате которого был подписан контракт о строительстве газопровода «Сила Сибири» в КНР.
В период 2014–2022 гг. «поворот на Восток» стал осуществляться в условиях антироссийских санкций, в результате чего в рамках концепции акцент сместился в большей степени на внешнеполитическую составляющую. С одной стороны, как отмечают эксперты, российским руководством были предприняты определенные усилия в восточном направлении: «с 2014 по 2018 г. состоялось более 20 встреч между руководством России и Китая, 25 встреч между президентом В. В. Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ; между Россией и Китаем был подписан ряд важных экономических контрактов» [11, c. 6]. В период в 2014– 2018 гг. в Россию пришли «крупные азиатские инвестиции: прежде всего из Китая, но также из Японии, Индии и стран АСЕАН» [7]. Однако место самой России в экономике стран АТР и ЮВА оставалось весьма скромным. В 2015 г. был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начавший активно развивать так называемый «внешний контур» евразийской интеграции в рамках представленного в 2016 г. президентом В. Путиным «Большого евразийского партнерства».
В результате в 2015 г. ЕАЭС подписал Соглашение о сопряжении с Экономическим поясом Шелкового пути Китая, страны ЕАЭС в период с 2016 по 2020 г. заключили ряд соглашений, в том числе о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и Китаем. В 2018 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества.
Обращает на себя внимание, что в последней редакции Концепции 2016 г. число упомянутых стран Востока увеличилось за счет упоминания Монголии, Республики Корея и Вьетнама и «других стран АТР». В свою очередь, ЕАЭС в тексте Концепции 2016 г. рассматривается как эффективный инструмент «гармонизации интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах», а не просто как «связующее звено», «мост» между Европой и Азией (как это было отмечено в Концепции внешней политики РФ 2013 г.). В новой редакции российская сторона заявляет о необходимости формирования «общего, открытого и недискриминационного экономического партнерства — пространства совместного развития государств — членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях обеспечения взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском и Евразийском регионах»1. Проект «Большой Евразии» на этом этапе стал еще одним из компонентов политики «поворота России на Восток».
С другой стороны, как отмечает российский эксперт С. К. Песцов: «Региональные внешнеполитические приоритеты РФ, по сути, остаются неизменными на протяжении довольно долгого времени. АТР, как можно увидеть, традиционно отводится третья по значимости позиция после СНГ и ЕС. Кризисный во взаимоотношениях России и Запада 2014 год в этих приоритетах мало что изменил»
[16, c. 9]. В тот период эксперты подчеркивали, что «поворот не стоит считать разворотом на 180 градусов от Европы к Азии, а, скорее, переориентацией России из прагматических соображений на открывающиеся перед ней новые возможности и стремлением соответствовать требованиям современного мира» [3]. Этот тезис нашел свое отражение и в инициативе В. Путина о создании «Большого евразийского партнерства» 2016 г., к участию в котором, по словам президента, приглашены были и страны ЕС1. Действительно, после резкого спада темпов сотрудничества ЕС и России, последовавшего за событиями 2014 г., уже к 2017 г. ситуация постепенно начала исправляться. Парадоксально в условиях введенных санкций против России со стороны ЕС и российских контрсанкций в отношении стран ЕС, но факт: по-прежнему Евросоюз продолжил оставаться одним из важнейших торгово-экономических партнеров России. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы России, торговый оборот России с ЕС в январе — июле 2017 г. составил 43,5% всей российской внешней торговли, а в январе — июле 2018 г. — 43,8 %2. И эти цифры существенно были больше показателей торговли РФ со странами Азии.
Предварительные итоги и экспертные оценки политики «поворота на Восток» были подведены в 2019 г. на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках заседания Валдайского клуба. Эксперты Валдая пришли к выводам: «Поворот состоялся, но предстоит большая работа по закреплению и развитию успехов и преодолению системных трудностей. И эта работа должна быть проделана с обеих сторон»3. В то же время во внешней политике России вплоть до начала 2022 г., несмотря на кризис в отношениях со странами Запада, сохранялся ее многовекторный характер. Очевидно, что скорых впечатляющих результатов полной переориентации внешней политики и экономики РФ на Восток ожидать не приходится. Более того, несмотря на намерение авторов нынешнего этапа «поворота»/«разворота» на Восток представить данный курс как прагматический, ориентированный на достижение исключительно экономических целей, политические факторы в большей степени продолжают играть ведущую роль в реализации этого курса.
Наконец, четвертый этап «разворота России на Восток» (с 2022 г.) пока трудно охарактеризовать. Очевидно, что на данном этапе все еще сложно подводить какие-либо итоги, так как ситуация, вызванная началом специальной военной операции в феврале 2022 г., еще находится в процессе развития, отношения России со странами Запада продолжают ухудшаться, вводятся все новые санкции. Но понятно, что текущая геополитическая ситуация, беспрецедентный раз- рыв связей со странами Запада не только в сферах политики и экономики, но и культурной, научной и пр., безусловно, подталкивает Россию к дальнейшему «развороту на Восток» (а уже не «повороту»). На практике это выражается в первую очередь в изменении маршрутов поставок российских энергоресурсов и других экспортных товаров и услуг и в освоении новых азиатских рынков и источников финансовых ресурсов и технологий. Пережив первый шок от нового пакета западных санкций, российский бизнес начал интенсивно выстраивать новые связи с партнерами из Азии и Ближнего Востока: «В странах Азии и Ближнего Востока в силу высоких темпов экономического развития стабилен спрос на энергоносители, чем Россия уже успела воспользоваться, перенаправив туда часть нефти, обычно идущей в Европу» [14]. Уже сейчас более активно развивается сотрудничество в самых разных сферах с Индией, Китаем, Монголией, Вьетнамом, Сингапуром и другими азиатскими и ближневосточными странами. Так, например, в конце 2022 г. «российские компании впервые в истории стали крупнейшими поставщиками нефти для индийской экономики: на их долю пришлось 22% импорта» [11]. По итогам 2022 г., в пятерку главных торговых партнеров России вошли Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Беларусь. На первом месте по росту оказался товарооборот с Турцией — на 84% по сравнению с 2021 г.1, на втором месте — торговый оборот России и Китая, который в 2022 г. увеличился на 29,3%2, далее — товарооборот с Беларусью — 10%; а вот товарооборот с Германией ожидаемо упал на 23%, а с Нидерландами — на 0,1%3.
Важным событием 2022 г. стал VII Восточный экономический форум, главной темой которого объявлена тема нового миропорядка — «На пути к многополярному миру». Сама идея форума изначально состояла в реализации одной из задач политики России «поворота на Восток» — содействие развитию Дальнего Востока и укреплению связей со странами АТР. Согласно данным официального сайта форума, в 2022 г. «участие в форуме приняли более 7 000 участников и представителей СМИ из 68 стран <…>. Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые в форуме приняли участие представители таких стран, как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда»4. Таким образом, прошедший в условиях жестких санкций ВЭФ-
2022 все же опроверг тезис о полной изоляции России, продемонстрировав устойчивый интерес достаточного количества стран к развитию деловых связей с Россией в новых геополитических и геоэкономических условиях.
Явный акцент на восточном направлении сделан и в «Основных внешнеполитических итогах 2022 г.», опубликованных на сайте МИД РФ. Так, в документе позитивно оценивается многостороннее сотрудничество с участием России в 2022 г. в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также на площадках АСЕАН, ВАС и АТЭС, где ставились «вопросы укрепления многополярного миропорядка, налаживания практической кооперации между странами АТР»1. Отдельно уделено внимание ближневосточному направлению, где многостороннее взаимодействие в 2022 г. развивалось в рамках следующих площадок: стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и по линии Россия — Лига арабских государств (ЛАГ). Диалог с Китаем в 2022 г. вышел на новый уровень: по итогам переговоров глав государств РФ и КНР в феврале 2022 г. было принято «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии»,2 в котором лидеры двух стран представили мировому сообществу общее видение мирового порядка, международных правил и норм. Отмечены контакты по широкому кругу вопросов с Индией, Ираном, Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Турцией. Заметным нововведением четвертого этапа политики России «поворота на Восток», как уже отмечалось ранее, стало расширение географического наполнения понятия «Восток» за счет стран Ближнего Востока, которые традиционно сохраняют дружественный нейтралитет по отношению к России. «Поворот на Ближний Восток» становится одним из перспективных новых компонентов политики «поворота России на Восток», обеспечивая диверсификацию связей России и в восточном направлении.
Заключение
Особенностью нынешнего этапа в развитии политики «поворота России на Восток» является ее политический характер, причинами чего стали серьезные геополитические трансформации последних десятилетий. Получив начало своего развития в середине 1990-х, восточный вектор внешней политики России претерпел серьезную эволюцию: от ее внутриполитического измерения, обусловленного необходимостью экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока, к внешнеполитическому измерению, связанному с поиском дополнительных источников модернизации российской экономики и диверсификации источников новых технологий, и, наконец, формированию евразийского компо- нента политики «поворота на Восток», сочетающего в себе внутриполитическое и внешнеполитическое измерения, а также ближневосточного.
Очевидно, что данный этап «разворота на Восток» носит скорее вынужденный тактический характер и в среднесрочной перспективе требует корректировки. Тем не менее, на наш взгляд, сформировались благоприятные условия для качественного наполнения восточного вектора российской внешней политики, необходимо изменить отношение в российском обществе к Востоку, сформировать позитивный имидж Азии, сделать этот регион привлекательным и понятным для российского общества и российского бизнеса.
В то же время следует принять во внимание, что в реализации политики «по-ворота»/«разворота на Восток» есть ряд серьезных препятствий и сложностей. Во-первых, проблемы ограниченности логистической инфраструктуры, обеспечивающей поставки углеводородного сырья, которая сформировалась главным образом в направлении европейских партнеров — до недавнего времени основных потребителей российских углеводородов. Во-вторых, не стоит недооценивать опасения наших восточных партнеров по поводу возможного введения так называемых вторичных санкций против них в случае их поддержки в каком-либо виде России. Известна практика США применения вторичных санкций с целью исключения обхода первичных. В-третьих, следует констатировать отсутствие у российского бизнеса достаточного опыта ведения дел с восточными партнерами, незнание и непонимание их делового менталитета (зачастую кардинально отличающегося от западного, европейского), этики ведения бизнеса, недостаточность российской экспертизы потенциала новых азиатских рынков.
В заключение следует отметить, что «двухконтинентальный» характер и традиция регулярных «поворотов» то в сторону Запада, то в сторону Востока являются одной из основ современной многовекторной внешней политики РФ. Этот дуализм имеет географические, исторические и идеологические предпосылки, сформировавшиеся на протяжении всей истории России. История показала, что преобладание только одного вектора (западного и восточного) повышает уязвимость России, что и стало одним из результатов разрыва традиционных связей с Европой в 2022 г. Тем не менее вплоть до 2022 г. политика «поворота на Восток» не предполагала полный «разворот» России в сторону Азии. Географическое положение и российская цивилизационная основа предопределяют взаимное сосуществование и взаимное дополнение России, Европы и Азии.
Как показал опыт 2022 г., главной внешнеполитической задачей России по-прежнему является сохранение устойчивой позиции на разных направлениях, не изоляция и не склонение к одному из полюсов, а развитие суверенитета во всех без исключения сферах, но прежде всего технологической и финансовой. Потенциал и ресурсы страны позволяют РФ максимально диверсифицировать торговоэкономические связи и развивать взаимовыгодное сотрудничество с внешними партнерами, как в Европе так и в Азии, что обеспечивает России политический баланс и устойчивость в регионе и мире.
Список литературы Поворот на восток в контексте внешней политики России: история и современность
- «Азиатский поворот» в российской внешней политике. Достижения, проблемы. Перспективы / под редакцией А. В. Торкунова, Д. В. Стрельцова, Е. В. Колдуновой. Москва: Аспект-Пресс, 2022. Текст: непосредственный.
- Астанина Е. А., Иноземцева Д. В. Азиатско-Тихоокеанский регион в концепциях внешней политики России в 1993–2008 гг.: на примере стран Восточной Азии // Общество. 2019. № 1(12). С. 12–17. Текст: непосредственный.
- Бордачев Т. Поворот на Восток только начинается // Валдайский клуб. 2016. 30 мая. URL: https://ria.ru/20160531/1441206933.html (дата обращения: 12.01.2022). Текст: электронный.
- Бордачёв Т. Поворот России на Восток: между выбором и необходимостью // Валдайский клуб. 1 сентября 2022 г. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/povorot-rossii-na-vostok/?sphrase_id=576294 (дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный
- Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002: хрестоматия: в 4 томах / составитель Т. А. Шаклеина. Т. 4. Документы. Москва: МГИМО МИД России, Российская ассоциация международных исследований, ИНО-Центр, 2002. Текст: непосредственный.
- Восток России: проблемы освоения — преодоления пространства / под редакцией В. А. Крюкова и В. В. Кулешова. Новосибирск, 2017. С. 22–23. Текст: непосредственный.
- Габуев А. Невпроворот на Восток // Фонд Карнеги. 14 февраля 2019 г. URL: https://carnegieendowment.org/2019/02/14/ru-pub-78361 (дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Москва, 1993. 608 с. Текст: непосредственный.
- Каракин В. П. Дальний Восток России — обретение границ, имени и специфики в «проблемном поле» страны // Вестник ДВО РАН. 2014. № 5. C. 118–131. Текст: непосредственный.
- Лукин А. В. Поворот России к Азии: миф или реальность // Официальный сайт МГИМО. 12 апреля 2016 г. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/povorot-rossii-k-azii-mif-ili-realnost/ (дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Минакир П. А. Ожидания и реалии политики «поворота на Восток» // Экономика региона. 2017. Т. 13, вып. 4. С. 1016–1029. Текст: непосредственный.
- Носов М. Г. Поворот на Восток: итоги пяти лет // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2019. № 2. С. 6–12.Текст: непосредственный.
- Носов М. Г. Россия между Европой и Азией // Современная Европа. 2013. № 3. С. 22–40. Текст: непосредственный.
- Перечнева И. Поворот на Восток // Эксперт. 2022. 28 нояб. URL: https://expert.ru/ural/2022/48/povorot-na-vostok/amp/ (дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Песцов С. К. Внешнеполитический поворот России: куда ведёт новая дорога // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень № 38(236). Восточный вектор российской политики и его политические и экономические последствия (по материалам круглого стола). Москва, 2016. С. 9–14. Текст: непосредственный.
- То Ань Зунг. Поворот на Восток — поворот к миру // Валдайский клуб. 2019. 15 окт. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/povorot-na-vostok-povorot-k-miru/?sphrase_ id=576294 (дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Тренин Д. Евро-Тихоокеанская держава // Россия в глобальной политике. 2003. № 1 Январь / Март. URL: https://globalaffairs.ru/articles/evro-tihookeanskaya-derzhava/ (да-та обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Тренин Д. Россия, евро-тихоокеанская держава // Фонд Карнеги. 2013. 14 окт. URL: https://carnegiemoscow.org/2013/10/14/ru-pub-53391.(дата обращения: 12.01.2023). Текст: электронный.
- Тураев В. А. Цивилизаторская миссия русского народа в культурном простран-стве Тихоокеанской России и проблемы постсоветской интеграции // Россия и АТР. 2016. Текст: непосредственный.