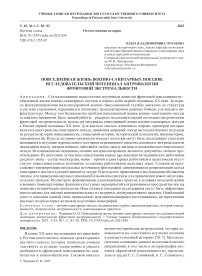Повседневная жизнь военно-санитарных поездов: исследовательский потенциал антропологии фронтовой экстремальности
Автор: Чуракова Ольга Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конференция "Петрозаводск - город воинской славы"
Статья в выпуске: 1 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена недостаточно изученным аспектам фронтовой повседневности -обыденной жизни военно-санитарных поездов в период войн первой половины ХХ века. За период функционирования железнодорожной военно-эвакуационной службы менялись ее структура и система управления, наращивался потенциал транспортировки раненых бойцов, улучшалась инфраструктура. Между тем большинство проблем повседневной жизни военно-санитарного поезда оставались прежними. Цель данной работы - раскрыть исследовательский потенциал антропологии фронтовой экстремальности, используя материалы повседневной жизни военно-санитарных поездов в России первой половины ХХ века. Для анализа «малых жизненных миров», примером которых являлось пространство санитарного поезда, применим широкий спектр методологических подходов из ресурсов истории повседневности, социальной истории, исторической психологии, микроистории, эмоционологии. В русле историко-антропологических подходов могут быть исследованы стратегии выживания в ситуации маргинального состояния передвижного средства спасения и экстремальности нахождения между театром военных действий и тылом, между жизнью и возможностью смертельного исхода. Источниками исследования, помимо материалов архивов, являются документы личного происхождения. Из последних лучше всего представлен корпус ego-документов медицинских работников среднего звена - сестер милосердия, менее - врачей и санитарных работников и практически отсутствуют повествовательные источники, созданные работниками железных дорог. Сложности представляют интерпретации визуальных источников (фотографий, кинохроники) и репрезентаций казуса санитарного поезда в художественной культуре. В результате проведенного исследования обозначены лакуны для проведения научных изысканий и выявлены ресурсы для применения новых исследовательских трендов. Рассмотреть формирование адаптационных практик в условиях походной жизни и выявить компенсаторные функции культурных мероприятий в ограниченном пространстве поезда позволяет историческая психология. Имагология и гендерные исследования могут быть эффективно использованы для анализа межнациональных и гендерных коммуникативных практик. Наибольший успех в освоении данной темы принадлежит междисциплинарным исследованиям, на пересечении научных полей которых возможна подготовка монографий.
Военно-санитарные поезда, медицинская служба, эвакуация раненых, история повседневности, антропология экстремальности, адаптационные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/147240111
IDR: 147240111 | УДК: 656.2+355.69 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.856
Текст научной статьи Повседневная жизнь военно-санитарных поездов: исследовательский потенциал антропологии фронтовой экстремальности
В конце ХХ века исследования истории войн в России пополнились новыми траекториями научного поиска, которые позволили ученым «заглянуть за кулисы» театра войны и увидеть особенности «фронтовой повседневности» комбатантов и нонкомбатантов. Таковой явилась
военно-историческая антропология, которая основывается на «системном изучении человека в контексте военной истории» [20: 7]. Методологические основания данного исследовательского направления, в том числе и историография изучения «фронтовой повседневности», представлены в трудах Е. С. Сенявской, А. С. Сенявского,
А. Э. Ларионова, Е. Н. Кринко и других авторов [11], [12], [21], [22], [23]. Кроме того, в изысканиях XXI века российскими учеными используются такие научные поля, как имагология, история эмоций, новые концепты и понятия: «антропология экстремальности», «адаптационные повседневные практики» [28: 192].
Цель данной работы – раскрыть исследовательский потенциал «антропологии экстремальности» на материалах повседневной жизни военно-санитарных поездов в России в период войн первой половины ХХ века. Поезд, как и любое транспортное средство, предназначенное для эвакуации военных, находится в постоянном положении маргинальности, курсируя между фронтом и тылом, а эвакуируемые – в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Постоянная смена внешних (географических, климатических) факторов порождала обстановку нестабильности, а замкнутость пространства усугубляла ситуацию психологической напряженности. Следовательно, мир жизни военносанитарного поезда в периоды вооруженных противостояний может быть успешно прочитан в дискурсе антропологии фронтовой экстремальности.
Основными источниками исследования данной темы являются материалы архивов и музейные коллекции1. Не менее важны и официальные документы, регламентирующие пространство поезда, его оснащение, штат служащих и расписание их деятельности2. Наиболее значимыми источниками для воссоздания атмосферы повседневной жизни военно-санитарного поезда являются документы личного происхождения, прежде всего – записки и воспоминания служащих военных транспортов. Более всего мемуаров и автобиографий (в дискурсе гендерных исследований используется термин «автогино-графии») оставили сестры милосердия периода Первой мировой войны3. В ряде музеев России представлены биографические данные работников санитарных поездов периода Второй мировой войны4. Уникальными источниками для реконструкции «психологического климата» походной жизни являются записки литераторов, служивших в санитарных поездах: К. Паустовского, В. Вересаева, А. Вертинского, В. Пановой [14]. События военных лет нашли отражение в документальных и художественных произведениях данных авторов5.
Весьма информативными являются визуальные источники (фотографии, плакаты, открытки, кинохроника), однако существует проблема их интерпретации. С одной стороны, они по- зволяют увидеть санитарные поезда «снаружи и изнутри», проследить различные стороны их деятельности, эволюцию униформы служащих и медицинских работников6. С другой стороны, подобные документы не вполне достоверны: зачастую это были постановочные кадры. Подобный идеализированный образ санитарного поезда «с комфортабельнейшими постелями и наиизящнейшею уполномоченною дамою» иногда видит и читатель художественной ли-тературы7. Наиболее реальное воспроизведение действительности поезда можно увидеть в фильмах советского периода, например, в созданных по повести В. Пановой «Спутники» кинолентах «Поезд милосердия» (1964 год, режиссер И. Хамраев), «На всю оставшуюся жизнь» (1957 год, режиссер П. Н. Фоменко), эпизодах фильма «Офицеры» (1971 год, режиссер В. Роговой) и др. [16: 107].
Таким образом, в распоряжении историка имеется вполне весомый корпус документов, позволяющий выявить особенности повседневной жизни передвижного санитарного средства в условиях военного времени.
ВОЕННО-САНИТАРНЫЕ ПОЕЗДА: ОТ ЭВАКУАЦИИ ДО ПЕРЕДВИЖНОГО ГОСПИТАЛЯ
Тема функционирования эвакуационной службы и передвижных лазаретов достаточно хорошо озвучена в работах современных историков. Так, в исторической литературе освещен на уровне научных публикаций период появления санпоездов в России в годы русско-турецкой войны 1877–1878 годов [3], [26]. Авторы статей, как правило, уделяют внимание описанию «Санитарного поезда № 1 имени Государыни императрицы», особенности службы медицинских работников которого хорошо известны благодаря запискам одного из них – Ф. Ф. Шперка8. К концу русско-турецкой войны в арсенале российской армии было уже более двух десятков санитарных составов. В источниках того времени указывалось 23 поезда9, а по подсчетам современных историков их было 31, и, кроме того, для эвакуации раненых и больных с театра военных действий были задействованы 99 воинских составов с «теплушками» и 57 сборных, состоящих из разного типа вагонов [7: 158]. Оборудованы вагоны военно-санитарных поездов были двумя способами: «стационарными» (статичными) носилками и «тарантасными станками» на рессорах. Второй способ, по мнению военного врача Н. В. Склифосовского, был «удобоприменимее»: раненый меньше ощущал тряску вагона, станки легко разбирались и складывались10.
В период русско-японской войны 1904– 1905 годов численность санитарных транспортов значительно выросла (по некоторым данным, к 1 февраля 1905 года было сформировано 92 санитарных поезда11), так как их финансированием занимались Главное управление Генерального штаба, главный военно-санитарный комитет при Военном совете, Российское общество Красного Креста, члены императорской семьи Романовых, общественные организации и частные благотворители. Следует отметить, что деятельность санитарных поездов в годы войны с Японией – одна из самых драматичных страниц за всю историю существования данного вида транспорта, так как в период войны линия фронта не раз подходила вплотную к железнодорожным путям и погрузка раненых шла буквально под огнем противника. В пути работников санитарных поездов ждали бытовые трудности: необходимо было решить проблемы с питанием раненых, отоплением вагонов, стиркой белья, размещением воинов в вагонах. По положению 1904 года состав поезда должен был принимать около 250 человек, но на деле, поставив в солдатских вагонах третий ярус носилок, вместимость поезда увеличивали до 500 человек. Раненые бойцы воспринимали поезд как единственный способ спасения. По воспоминаниям одного из участников войны, «после больших сражений раненые солдатики наползали во все щели, стояли на площадках… висели над буферами, цепляясь уцелевшими руками и ногами за малейшие выступы»12. Оказание медицинской помощи в пути осложнялось тем, что в составах поездов еще не было переходов между вагонами и медицинский персонал вынужден был на ходу перебираться из вагона в вагон, перепрыгивая по крышам, а медицинские сестры
«принуждены были заниматься несвойственной их полу и костюму гимнастикой, вскарабкиваясь на так высоко отстоящие от земли ступеньки вагона, что даже не всякий солдат мог на них задрать ногу»13.
В наибольшей степени отвечали потребностям эвакуации бойцов с линии фронта «именные» поезда, патронируемые представителями Дома Романовых: в их составах были вагоны-прачечные, кухни, иногда даже рентген-каби-неты, электрическое освещение. Однако появление таких транспортов на путях сообщения осложняло работу железнодорожных служб: их надлежало пропускать вне очереди, а раненых они могли эвакуировать намного меньше, нежели поезда Красного Креста или военного ведомства.
Ситуация мало изменилась к началу Первой мировой войны. За несколько лет до военной кампании Николай II вынес вердикт о «безотрадном состоянии в России санитарно-врачебного дела» [13: 229]. Тем не менее назначенный в начале Первой мировой войны Верховным начальником санитарной и эвакуационной части при штабе Верховного главнокомандующего А. П. Ольденбургский сумел наладить работу санитарных поездов, преодолев нехватку транспортных средств, оборудования, медицинского персонала. Деятельность принца Ольденбургского на данном посту оценивается неоднозначно, а между тем если в начале войны в распоряжении военных было 100 военно-санитарных поездов, то осенью 1914 года у одного только военного ведомства их было уже 259 [1: 27, 29]. В декабре 1916 года в российской армии действовало уже 400 военно-санитарных поездов [25: 220]. Деятельность военно-санитарных поездов в России в период Первой мировой войны достаточно хорошо изучена исследователями, чему способствует наличие огромного комплекса документов по данной теме в архивах РГВИА, ГА РФ и региональных архивных хранилищах [5], [9], [25].
В период становления советской власти произошла полная реорганизация лечебноэвакуационной системы и сосредоточение ее под единым руководством. В феврале – марте 1918 года Всероссийской коллегией по формированию РККА была создана система лечебноэвакуационного обеспечения войск [6: 10–12]. Служба военно-медицинской эвакуации совершенствовалась в годы интербеллума, а численность военно-санитарных эшелонов стремительно выросла за период Великой Отечественной войны: с 334 в 1941 году до 579 в июне 1945 года [4: 12–14]. Увеличилась и мощность железнодорожных составов: в этот период поезда состояли из 17–18 вагонов на 374–507 мест [17: 29–30]. Причем тыловые поезда представляли собой не просто транспортные средства для эвакуации раненых, а передвижные лазареты. Более четко работали и все вспомогательные службы, благодаря чему за годы Великой Отечественной войны медицинским работникам санпоездов удалось вернуть в строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных военнослужащих [18: 120].
Таким образом, за первую половину ХХ столетия потенциал и эффективность работы военноэвакуационной службы были увеличены, и если в войнах начала ХХ века поезда воспринимались прежде всего как средство эвакуации раненых, то в период Второй мировой войны тыловые военно-санитарные поезда функционировали уже как передвижные госпитали с вполне развитой инфраструктурой.
АДАПТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ
Интересно проследить то, как формировались адаптационные практики в условиях походной жизни. В императорской армии ставка в реабилитации бойцов делалась на духовную жизнь и потому велика была роль священнослужителей, сопровождавших поезда. Они не только совершали таинства исповеди и причащение умирающих (для верующего человека было страшно умереть без причастия), но и несли духовное утешение бойцам. В военно-санитарных поездах практиковалась раздача духовной литературы, иконок, открыток и подарков к православным праздникам. Но были случаи, когда наряду со снабжением бойцов душеспасительной литературой им в руки попадали и книги другого рода. Один из пациентов поезда времен русско-японской войны вспоминал:
«…супруга управляющего… барыня бедовая: она ходила без формы сестры милосердия и давала раненым читать не Евангелие или другие “приличествующие случаю” духовно-назидательные книги, а Поль-де-Кока14, справедливо рассуждая, что раненый не есть обыкновенный больной, что у него особая психика и что ему более необходимо развлечение, чем благочестивое размышление»15.
Действительно, санитарные составы снабжались и светской литературой, более всего она была востребована в поездах «дальнего следования», где пассажиры испытывали особенный сенсорный голод. Уже в годы русско-японской войны местные организации РОКК собирали книги для раненых бойцов, причем репертуар подбирался отдельно для офицеров и нижних чинов. Например, в 1905 году для поезда, следующего по маршруту Иркутск – Москва, было укомплектовано 4 офицерских и 7 солдатских библиотек [2].
В советское время для поднятия духа выздоравливающих воинов использовались различные формы культурного досуга: им читали газеты, проводили беседы и организовывали музыкальные вечера. Компенсаторная функция музыки в периоды войн достаточно хорошо изучена исследователями [24], [27]. Между тем реконструкция воинского репертуара для камерного исполнения в вагоне поезда, анализ воздействия различных музыкальных жанров на находящихся в экстремальной ситуации людей могли бы дополнить исследование темы новым материалом. В период Великой Отечественной войны в составах неко- торых поездов были сформированы агитбригады, силами медицинского персонала проводились концерты и мероприятия16.
Состояние катарсиса для больных с астеническим синдромом давала не только духовная пища. Рекреационную функцию выполняла сама атмосфера поезда, если вагоны были укомплектованы чистыми постельными принадлежностями, печами, чайниками и посудой, – все это создавало ощущение возвращения к мирной жизни, сублимацию домашнего очага. «Праздниками» для воинов и российской, и Красной армии были банные дни. В периоды войн начала ХХ века эти процедуры проводили специальные подразделения, а в первые годы Великой Отечественной войны было налажено производство «бань на колесах»: появились вагоны-душевые, парные, комнаты отдыха. В результате подобных мероприятий происходило то, что на современном языке называется перезагрузкой организма.
ЛАКУНЫ И РЕСУРСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Следует отметить, что не все аспекты медико-эвакуационной деятельности исследованы в полной мере. Так, в российской и советской историографии по достоинству оценен вклад железнодорожной службы в дело функционирования медицинской помощи бойцам: «слаженная, организованная, нацеленная на победу над врагом, работа железнодорожников оказала незаменимую помощь фронту» [8: 164]. Это касается периодов всех войн ХХ века. Однако за гранью исследований остались особенности повседневной жизни железнодорожников, обслуживающих военно-санитарные поезда. Важно то, какой ценой была обеспечена бесперебойная работа транспорта: работникам железных дорог приходилось решать вопросы с пополнением запасов топлива, исправностью составов, сменяемостью и подготовкой кадров в военное время и многие другие. При этом они испытывали такие же бытовые трудности и психологические нагрузки, как и медицинский персонал поезда. Кроме того, у российских железнодорожников в период Второй мировой войны нередко возникали проблемы с оплатой труда, снабжением продовольствием и промышленными товарами, обеспечением обмундированием и даже военкоматами [4: 15–17].
Наибольшей исследовательской лакуной остается жизненный мир санитарных транспортов. Показательно, что в бытовании вынужденных пассажиров мобильных лазаретов в периоды всех войн первой половины ХХ века было много общего. Прежде всего повседневная жизнь отличалась экстремальностью. Одна из характеристик «фронтовой повседневности» – нахождение человека в ситуации стресса от возможной опасности, близости смерти. Как отмечают исследователи, «военная повседневность… подчиняется общим закономерностям исторических исследований повседневности», однако «имеет свои особенности... определяемые экстремальностью» [22: 244].
Вне сомнения, санпоезда были зонами чрезвычайной нестабильности. Причем маятник, колебавшийся между мирной жизнью и военной, был смещен в сторону последней: санитарные составы, в нарушение международных конвенций, часто попадали под обстрелы, являясь легкой мишенью для врага [4: 14], [5: 14], [9]. Война сама по себе – явление с сильной эмоциональной репрезентативностью, а «жизнь на колесах» усугубляла обстановку психологической напряженности. Раненые бойцы вынуждены были бороться с проявлением и физических, и психических страданий. Следует отметить, что в составах поездов в период Первой мировой войны предписывалось иметь вагон и определенный штат персонала для перевозки душевнобольных бойцов17. Неслучайно именно на материалах войн «выросло» в конце ХХ – начале XXI века исследовательское направление «история эмоций». В данном дискурсе при анализе состояния пациентов санитарных поездов могут быть выявлены сущности категорий «страх», «страдание» и «сострадание», «альтруизм» и «психологическое выгорание», порожденное длительным пребыванием человека в «нечеловеческих условиях», – то, что в медицине именуется астеническим синдромом. Поведенческие стереотипы и коммуникативные практики, формирующиеся в замкнутом пространстве в экстремальных условиях, могут быть исследованы в рамках исторической психологии. Между тем проявление психотравматизма военного времени, как и тема «телесности» (контузии, психозы, стремление к суициду инвалидов и пр.), не были предметом исследования историков ХХ века в силу идеологических шор и отсутствия надлежащего корпуса источников, прежде всего нарратива. Лишь в последние десятилетия введены в научный оборот документы личного происхождения, касающиеся данной темы. Однако и здесь есть своя специфика: чаще всего это воспоминания бывших раненых и медицинского персонала санитарных транспортов, написанные годы спустя. Кроме того, в данном корпусе источников есть и гендерная, и социальная асимметрия: лучше всего представлены ego-документы женщин, в особенности сестер милосердия, менее – врачей и санитарных работников и практически отсутствуют повествовательные источники, созданные работниками железных дорог. Это определялось, во-первых, гендерной идентичностью авторов мемуаров, так как, по мнению представителей исторической феминологии, «женщина сильнее ощущала… в силу своих психологических и физиологических особенностей, перегрузку войны»18. Во-вторых, в первой половине ХХ столетия была традиция ведения дневников и переписки. Причем девушки начала ХХ века не боялись «изливать свои чувства» (иногда с чрезмерной, на взгляд читателя XXI века, экзальтацией), но именно такие источники и важны для выявления психологической составляющей пространства поезда. В женских записках присутствует целый спектр эмоций, позволяющих выявить мотивацию их служения в передвижных госпиталях: одних девушек влекла «кипучая поездная жизнь с массой впечатлений и огромным разнообразием» [10: 40], других – чувство патриотизма, третьих – денежное довольствие. Поэтому поведенческие практики служения медицинских работников в санитарном поезде были очень разнообразны. Однако в большинстве своем девушки самоотверженно трудились: «лечили, и дежурили, и ухаживали, и грузили, и носили, и стирали, и варили, и кормили, и охраняли»19. Кроме того, что «сестры сталкивались с бытовой неустроенностью», молодые женщины зачастую встречались с «проблемами во взаимоотношениях с персоналом и военными» [10: 45]. Наиболее полное и острое исследование темы поведенческих девиаций представлено американским историком и антропологом Лори Стофф [30]. По мнению российских ученых, книга Л. Стофф
«бросает вызов… мифам военной истории… которые своим умолчанием… скрывали от аналитиков реальный вклад медсестер… в российские военно-медицинские достижения» [15: 245].
Следует отметить, что в качестве источников Лори Стофф использует тексты, созданные сестрами милосердия военно-санитарных поездов (Александры Толстой, Татьяны Варнек и др.). Сравнивая деятельность медицинских сестер в разных странах, зарубежные авторы (Лори Стофф, Кристина Халлет) отмечают, что для россиянок помощь раненым была не просто работой, но служением [29], [30].
Обращение к истории деятельности военно-санитарных поездов позволяет проследить эволюцию санитарной службы на протяжении полувека. Интересно, что если в начале ХХ века
«санитарная прислуга» («санитарные служители») набиралась из малограмотных «простолюдинов», то в годы Первой мировой войны в рядах санитаров было немало представителей творческой интеллигенции. Мемуары, эпистолярное и творческое наследие самых известных из них – А. Вертинского, К. Паустовского, С. Есенина являются прекрасным источником для воссоздания атмосферы жизни санитарного транспорта [14: 39–42]. Показательно, что в период Гражданской войны в русле начавшейся трансформации гендерных ролей в штате военных поездов появились женщины-санитары, они практически заменили мужчин на этой тяжелой работе в годы Великой Отечественной войны.
Таким образом, штат военно-санитарного поезда – это живой организм с особой иерархией и сложностями социальных, гендерных, культурных установок персонала. Помочь выявить специфику данных взаимосвязей призваны военно-историческая антропология, историческая психология, гендерные исследования. Например, гендерная лингвистика «позволяет проследить особенности речевого поведения мужчин и женщин» в процессе их взаимоотношений [19: 24]. Источниками для подобных исследований могут служить «автогинографии» врачей и медицинских сестер: именно в них представлен наиболее широкий арсенал вербальных презентаций самоощущений авторов. Чтобы выявить степень интенсивности работы в военно-санитарных поездах, следует сравнить мемуары сестер милосердия санитарных транспортов и тыловых госпи-талей20. Показательно, что в период войн начала ХХ века врачи, медицинские сестры и санитары жили на разных «социокультурных этажах» и не всегда «понимали» друг друга, а в период войн середины ХХ века все они говорили уже «на одном языке».
Еще одно направление исследований – има-гология через призму «свой» vs «чужой» рассматривает особенности гендерных, социальных и межнациональных коммуникаций. Женевская конвенция 1864 года предписывала оказывать медицинскую помощь раненым вне зависимости от принадлежности к воюющей стороне, и именно в поезде зачастую происходила первая встреча с противником вне поля боя. Эта вынужденная коммуникация порождала различные ситуации: от открытого конфликта до возникновения дружеских отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, материалы повседневной жизни военно-санитарных поездов в России в период войн первой половины ХХ века имеют огромный исследовательский потенциал для реконструкции российского военного прошлого в дискурсе антропологии экстремальности.
Антропология фронтовой экстремальности – междисциплинарное поле гуманитарных исследований, однако материалом для них служат конкретные исторические реалии, в данном случае связанные с проблемой эвакуации с театра военных действий раненых и больных воинов. В первой половине ХХ века основным транспортным средством медико-санитарной эвакуации был военно-санитарный поезд. За первую половину прошлого века отечественная железнодорожная военно-эвакуационная служба претерпела значительные изменения: менялась нормативная база формирования составов, улучшалась их техническая оснащенность, совершенствовалась инфраструктура службы медицинской эвакуации. Между тем в обыденной жизни военно-санитарных поездов в период всех войн первой половины ХХ существовало немало проблем, как бытовых, так и психологического характера. Феномен военно-санитарного поезда – яркий пример конвенциональной культуры, так как жизнь его «штатных единиц» была строго регламентирована законами военного времени и сложной системой иерархий – военной и медицинской, а в период Российской империи – еще и социальной. Мир санитарного транспорта в военное время – явление многоаспектное, и изучение повседневной жизни персонала поезда возможно лишь объединенными усилиями ученых, занимающихся историей медицины, и представителей гуманитарного знания: историков, социологов, психологов, этнологов, культурологов, антропологов.
Для воссоздания атмосферы жизни поезда в режиме «труд – быт – отдых» необходимо применение как традиционных, так и новых исследовательских трендов. В русле историко-антропологических подходов, исторической психологии и истории эмоций могут быть исследованы особенности походной жизни в замкнутом пространстве поезда, формирование адаптационных практик и стратегии выживания в ситуации экстремального состояния. Имагология и гендерная экспертиза способны выявить специфику межнациональных и гендерных коммуникативных практик. Вне сомнения, междисциплинарные исследования наиболее эффективны для комплексного анализа экстремальной военной повседневности.
Следует отметить, что мир военно-санитарного поезда является отражением общих ментальных установок человека в период военных конфликтов.
За первую половину ХХ века в России менялись политические режимы, шла модернизация общества, однако в годы военных испытаний россияне неизменно демонстрировали проявление высоты человеческого духа. Служба персонала военно- санитарных поездов – это многочисленные примеры мужества, самоотверженности, патриотизма. Исследование данной темы важно для формирования коммеморативных практик и увековечивания памяти о войнах России.
Список литературы Повседневная жизнь военно-санитарных поездов: исследовательский потенциал антропологии фронтовой экстремальности
- Аранович А. Эвакуировать во что бы то ни стало // Родина. 2004. № 9. С. 27-31.
- Баубекова С. А. Из истории общества Красного креста в период русско-японской войны 1904-1905 гг. (по материалам фонда редкой и ценной книги Научной библиотеки ДВФУ) // «Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/articles-almanac-17-2017/29_Baubekova.pdf (дата обращения 22.10.2022).
- Будко А. А., Журавлёв Д. А., Грибовская Г. А. Первое использование российской армией военно-санитарных поездов на театре военных действий (по опыту Русско-турецкой войны 1877-1878 годов) // Война и оружие. Новые исследования и материалы: Труды Восьмой Международной научно-практической конференции. 17-19 мая 2017. Ч. 4. СПб.: ВИМАИВиВС, 2017. С. 366-370.
- Буряк Ю. Ю. Военно-санитарные поезда СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 71. С. 11-19. Б01: 10.17223/19988613/71/2
- Гладких П. Ф. Военная медицина императорской России в Первой мировой войне в 1914-1917 годы // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2017. № 2. С. 5-24. Б01: 10.25016/2541-7487-2017-0-2-5-24
- Гладких П. Ф. Российская военная медицина в первые годы советской власти // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2017. № 3. С. 5-17. Б01: 10.25016/2541-7487-2017-0-3-05-17
- Журавлев В. К., Кулеев П. В., Фомин С. А. История развития военно-санитарных поездов в России // Юбилейная научно-практическая конференция - 2021: Сб. материалов Всеармейской науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения генерал-майора медицинской службы О. С. Лобастова. СПб.: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 2021. С. 155-160.
- Зеленская Ю. Н. Культурно-массовая работа на Кировской железной дороге в годы Великой Отечественной войны // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IV Международной научной конференции. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. С. 164-165.
- Карпенко И. В. Бомбардировка санитарных поездов русской армии немецкими и австрийскими самолетами в годы Первой мировой войны // Военно-медицинский журнал. 2018. Т. 339, № 2. С. 87-90 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://journals.eco-vector.com/0026-9050/article/view/72971 (дата обращения 12.10.2022).
- Климочкина А. Ю. Повседневность сестер милосердия в годы русско-японской войны // Государство, общество, личность: история и современность: Сб. ст. Международной научно-практической конференции, ноябрь 2016 года. Пенза: РИО ПГСХА, 2016. С. 38-45.
- Ларионов А. Э. Фронтовая повседневность Великой Отечественной войны как объект научной коммеморации в российской историографии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2022. № 1. С. 37-45. 10.18384/2310-676Х-2022-1-37-45
- Ларионов А. Э. Фронтовая повседневность Великой Отечественной войны: социальные коммуникации и духовная жизнь РККА 1941-1945 гг. М.: Золотое сечение, 2015. 295 с.
- Лебедев В. Д. «Проведение мероприятий дали хорошие результаты.»: отчет принца А. П. Ольден-бургского императору Николаю II (1915 г.) // Исторический вестник. 2015. Т. 14, № 161. С. 228-275.
- Меараго Ш. Л. Русские знаменитости в санитарных поездах // Новейшие достижения и успехи развития медицины и фармакологии: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Вып. 1. Краснодар, 2016. С. 38-44.
- Мицюк Н. А., Пушкарева Н. Л. «Не только перевязка мужских ран»: историко-антропологи-ческое исследование медицинского сестринства в годы Первой мировой войны // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2. С. 244-252. D0I: 10.17223/2312461Х/20/13
- Нечаева Е. О. Образ медицинской сестры в советском и постсоветском кинематографе // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2022. № 3. С. 104-111. D0I: 10.28995/20736401- 2022-3-104-111
- Никогосян Н. Р., Брагиров Г. Б. Транспортировка раненых красноармейцев в годы Великой Отечественной войны: способы и виды // Альманах молодой науки. 2021. № 1 (40). С. 29-30.
- Никулина П., Иващенко В. А. Роль железнодорожного санитарного транспорта в годы Великой Отечественной войны // Инновационное развитие современной юридической науки: Материалы II ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора А. П. Лончакова. Хабаровск: ТГУ, 2018. С. 117-121.
- Поршнева О. С. Гендерный фактор политической мобилизации в России в условиях Первой мировой войны: методология и историография // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2022. № 2. С. 21-31. 10.28995/2073-6339- 2022-2-21-31
- Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология: проблемы становления новой отрасли человеческого знания // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2005. № 3 (40). С. 7-14.
- Сенявская Е. С. От военной истории к военной антропологии: проблемное поле и междисциплинарные подходы в изучении «человека на войне» // Война в человеческом измерении: идеология, психология, повседневность, историческая память: Материалы науч. конф. (г. Москва, 20 марта 2020 г.). СПб.: Алетейя, 2021. С. 11-23 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/50a/sum72706.pdf. (дата обращения 14.10.2022).
- Сенявская Е. С. Фронтовая повседневность в войнах России как объект изучения: историографический итог трех десятилетий (1991-2021) // Исторические записки. 2021. № 20 (138). С. 243-257.
- Сенявская Е. С. Фронтовой быт Великой Отечественной войны: структура и особенности // Вестник антропологии. 2021. № 2. С. 7-25. 10.33876/2311-0546/2021-54-2/7-25
- Трегулова Н. П. Роль музыки периода Великой Отечественной войны в духовной жизни России // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 78-1. С. 142-144. 10.18411Лгпю-10-2021-39
- Чиж И. М., Карпенко И. В. Военная медицина в русской армии в годы Первой мировой войны // История медицины 2017. Т. 4, № 2. С. 216-224. 10.17720/2409-5583.t4.2.2017.08h
- Чиж И. М., Сергеева М. С., Шматова М. Б., Токарь А. А. Санитарные поезда как средство эвакуации раненых в военных компаниях Российской империи 1877-1917 гг. // Былые годы. 2021. № 16 (2). С. 829-839. DOI: 10.13187/bg.2021.2.829
- Чупраков К. С. Военная музыка как фактор формирования духовного мира военнослужащего Российской армии // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 2. С. 345-350. DOI: 10.34823/SGZ.2020.2.51358
- Щеглова Т. К. Культура жизнеобеспечения русского сельского населения в годы Великой Отечественной войны: новые подходы в современной отечественной этнологии / антропологии // Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы развития: Материалы Всероссийской науч. конф. с междунар. участием. Барнаул: АГПУ, 2020. С. 192-199.
- Ha11e11 C . Russian romances: Emotionalism and spirituality in the writings of "Eastern Front" nurses, 19141918 // Nursing History Review. 2009. Vol. 17. P. 101-128. DOI: 10.1891/1062-8061.17.101
- Stoff L. S. Russia's sisters of mercy and the Great War: more than binding men's wounds. Kansas: University press of Kansas, Cop. 2015. 375 р.