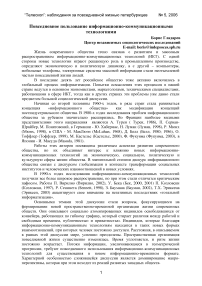Повседневное пользование информационно-коммуникационными технологиями
Автор: Гладарев Борис
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 5, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181586
IDR: 142181586
Текст статьи Повседневное пользование информационно-коммуникационными технологиями
Жизнь современного общества тесно связана с развитием и массовым распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). С одной стороны новые технологии играют решающую роль в промышленном производстве, определяют экономическую и политическую динамику, а с другой – компьютеры, мобильные телефоны, электронные средства массовой информации стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей.
В последние десять лет российское общество тоже активно включилось в глобальный процесс информатизации. Попытки осмысления этих процессов в нашей стране ведутся в основном экономистами, маркетологами, техническими специалистами, работающими в сфере ИКТ, тогда как в других странах эти проблемы уже давно стали предметом большой социологической дискуссии.
Начиная со второй половины 1960-х годов, в ряде стран стала развиваться концепция «информационного общества» как модификация концепций постиндустриального общества. В 1980-х годах исследования проблем информационного общества за рубежом значительно расширились. Во Франции наиболее видными представителями этого направления являются А. Турен ( Турен, 1986), П. Серван-Шрайбер, М. Понятовский, в Германии - Ю. Хабермас, Н. Луман (Луман, 1998), Р. Мюнх (Мюнх, 1998), в США - М. МакЛюэн (McLuhan, 1968), Д. Белл (Белл, 1980; 1986), О. Тоффлер (Тоффлер, 1999), М. Кастельс (Кастельс, 2000), Ф. Фукуяма (Фукуяма, 2003), в Японии - И. Масуда (Masuda, 1981).
Работы этих авторов посвящены различным аспектам развития современного общества, но их объединяет интерес к влиянию новых информационнокоммуникационных технологий на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы жизни общества. В значительной степени дискурс информационного общества связан с дискурсом глобализации в контексте трансформации социальных институтов и человеческих взаимоотношений в новых условиях.
В 1990-х годах исследования информационно-коммуникационных технологий получили все более широкое распространение, но при этом стали отличатся критическим пафосом. Работы П. Вирилио (Вирилио, 2002), У. Бека (Бек, 2000, 2001) П. Козловски (Козловски, 1997), Р. Сенннета (Sennett, 1998), З. Баумана (Бауман, 2002), Т.Х. Эриксена (Эриксен, 2003) акцентируют свое внимание на негативных последствиях «тотальной информатизации».
Основными темами этой дискуссии стали вопросы, фокусирующиеся на формировании новой пространственно-временной организации жизни современных обществ. Они описывают социально атомизированных индивидов освободившихся от конвейера, работающих по гибкому графику, который стирает различия между работой и свободным временем, публичностью и приватностью. Индивидов, которые благодаря информационно-коммуникационным технологиям находятся в таких новых формах взаимоотношений, при которых человек постоянно доступен. Расстояния, в описываемом в рамках этой дискуссии мире, успешно преодолены. Пространственная организация повседневной жизни существенно изменилась. Время уплотняется, и ритм жизни постоянно возрастает. Потоки информации, увеличивающиеся в геометрической прогрессии, требуют повседневного использования информационно-коммуникационных технологий для существования в новом информационно-временном формате. Характерной особенностью сложившейся дискуссии является доминирование макроперспективы, которая при этом исходит из реалий развитых западных обществ.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что технологическая революция, произошедшая в средствах коммуникации в середине 1980-х годов, становится одним из важнейших факторов общественного развития. Расширение возможностей для коммуникации посредством эффективных, недорогих и мобильных средств связи создает предпосылки для новой организации общества. По мере расширения сети пользователей интернета и мобильной телефонии, целые сферы человеческой деятельности стремительно переносятся в поле дистанционной коммуникации (Иванов, 2002: 132). Изменяется привычный порядок взаимодействия, как на уровне институтов, так и на уровне индивидов, участвующих в интеракциях. Трансформируются «основы и категории, в рамках которых мы до сих пор мыслили и действовали, - пространство и время, труд и досуг, предприятие и национальное государство» (Бек, 2000: 25). Как любая революция, революция в сфере коммуникаций вызывает «культурную травму», быстро вытесняя привычные формы работы, общения, образования, развлечений, властных диспозиций и замещая их новыми (Иванов, 2002: 141).
В российской социологии тема информационного общества стала актуальной в последнее десятилетие. Появились многочисленные работы, посвященные макросоциальным процессам в информационном обществе (например, Иноземцев, 1998, 1999, 2000), некоторые исследователи пытаются рассматривать эти проблемы в контексте российской специфики (Соколова, 1999а, 1999б). Анализируются идеология формирующегося информационного общества (Алексеева, 1998), процессы виртуализации социального пространства (Иванов, 2000). Есть исследования аудитории РуНета (Чугунов, 2000а, 2000б, 2002), лингвистических аспектов интернет-коммуникации (Бергельсон, 1999; Войскунский, 2003). Особенности коммуникации, осуществляемой с помощью новых ИКТ, привлекают внимание социальных психологов, которые делают акцент на изучении норм и правил, лежащих в основе такого общения (Белинская, 2002).
Однако в российской научной дискуссии существует тенденция, выражающаяся в том, что исследователи ИКТ концентрируют свои исследовательские усилия только на одной технологии (пусть и весьма значимой) - на изучении интернет. В то же время круг пользователей мобильной телефонии в России гораздо шире, чем аудитория интернет. Как отмечает сотрудник информационно аналитического агентства «Сотовик» Григорий Долин, «общая абонентская база операторов мобильной связи в РФ за последние 12 месяцев удвоилась и приближается к рубежу в 40 млн. (20-миллионная отметка была преодолена в феврале 2003 года). Уровень проникновения 1 мобильной связи в стране вырос по сравнению с февралем прошлого года тоже в два раза – 27,5%» (Долин, 2004a). Почти также стремительно расширяется группа пользователей интернет. Их количество в РФ за последний год выросло на 40%. Сейчас она составляет около 21 млн. человек (Долин, 2004b), однако это почти вдвое меньше числа пользователей мобильной телефонии. Таким образом, наиболее популярной технологией дистанционной коммуникации на настоящий момент, помимо стационарного телефона, является мобильная телефония. Только в Петербурге, где по данным Госкомстата проживает 4,67 млн. челове к2, сейчас насчитывается 4,24 млн. пользователей мобильных телефонов (Брюквин, 2004).
Из социологической перспективы мне кажется важным понять, почему ИКТ получили столь массовое распространение, определить их роль и место в социальных взаимодействиях на разных уровнях.
Предметом исследования являются повседневные практики пользования ИКТ 2030 летними молодыми людьми, проживающими в Петербурге . Понятие «повседневных практик» будет использоваться для обозначения рутинной деятельности индивидов –
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2006 привычных способов обращения с другими людьми, вещами, символами, своим телом, языком, временем и пространством (Волков, 1997).
Актуальность подобного исследования связана также с тем, что в современной российской социологической дискуссии работ, посвященных социальной роли мобильного телефона и электронной почты на микро-уровне повседневной коммуникации, практически нет. Существует одно исследование, связанное с анализом стиля и практик разговора по стационарному телефону (Красовский, 2000), где автор рассматривает свой собственный опыт дистанционной коммуникации с невидимым собеседником, а также исследование, посвященное семантике мобильного телефона в молодежной субкультуре (Николаева Е.В., Николаева Т.Н., 2004). Также нужно упомянуть представляющее интерес для моей работы эссе Валерия Голофаста, в котором лейтмотивом проводится идея о возникновении новой информационной среды, которая принуждает изобретать новые формы общения, проникая во все институты, взламывая формы приватности, деформируя привычные культурные нормы и установки поведения (Голофаст, 2002: 15). Однако это размышление скорее напоминает «рефлексию на тему» и не опирается на какие-либо конкретные данные социологических исследований.
Эмпирические исследования мобильной телефонии и электронной коммуникации в России, которые существуют в настоящий момент, в большинстве своем имеют маркетологическую направленность и носят закрытый характер. Данные этих исследований либо предоставляются за плату (150-200$), либо собираются для внутреннего использования компаниями мобильной связи.
Анализ открытых источников (интернет, газетные и журнальные публикации за 1,5 года) 3 демонстрирует широкое применение ссылок на анонимных «социологов», «аналитиков», «исследователей» для подтверждения высказываемых мнений, легитимации информации и приводимых цифр. Тогда как реально проводимые исследования упоминаются крайне редко, а их достоверность невозможно верифицировать. Серьезное расхождение данных и очевидная ангажированность авторов статей требует критического отношения к этой информации со стороны исследователя.
Моя работа находится в русле теоретического подхода, известного как социология практик . На концепции «практики» основаны многие современные теории социального действия. К числу социологических теорий практики относят конструктивистские и некоторые постструктуралистские концепции, принимающие постулат детерминации социального действия имплицитными, нерефлексируемыми («фоновыми») и надиндивидуальными практиками как символическими порядками и диспозитивами действия (Девятко, 2003: 289). Исследования в рамках социологии практик ориентируются на изучение социального взаимодействия на микро-уровне и реализуются посредством применения качественной методологии. Выбор качественной методологии обусловлен исследовательским вопросом, который фокусируется на повседневных практиках коммуникации с помощью ИКТ.
В анализе практик на всех перечисленных уровнях я отталкиваюсь от индивида, который включается во взаимодействия с государством, организациями, или другими индивидами. Информацию такого рода возможно получить только применяя качественную методологию исследования, позволяющую «раскрыть скрытые субъективные смыслы, или механизмы функционирования социальной практики» (Семенова, 1998: 13).
Практики принципиально не скрыты, но для того чтобы их рассмотреть, требуется определенная техника отстранения, описания и интерпретации (Волков, 1997: 18). Особенности повседневного поведения слабо рефлексируются непосредственными
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2006 его акторами, поэтому не могут быть адекватно описаны количественными методами, которые ориентируются на сбор данных, не нуждающихся во множественной интерпретации и очевидных для участников социального взаимодействия.
Из достаточно широкого арсенала качественных стратегий исследования практик я остановил свой выбор на множественном исследовании случаев (collective case approach), так как, анализируя системы институционального и индивидуального дисциплинирования, реализуемые через ИКТ, я старался учесть как можно более широкий диапазон повседневных тактик и стратегий, используемых для осуществления контроля и уклонения от контроля.
В данном исследовании участвовали четырнадцать пользователей ИКТ, которые рассматривались мной как четырнадцать отдельных случаев множественного кейс-стади. В отличие от коллекции глубинных интервью, где индивидуальные характеристики информанта имеют косвенное значение при интерпретации его нарратива, в моем исследовании каждый случай был детально изучен с применением нескольких методов сбора данных, все обобщения строились исходя из индивидуального профиля участника, а отдельное внимание было уделено анализу контекста, в который были вписаны кейсы. Стратегия множественного case-study позволила рассмотреть многообразие форм индивидуального и институционального контроля посредством ИКТ не утрачивая специфики каждого отдельного случая.
Единицей анализа в исследовании является индивид – пользователь ИКТ. Основные критерии отбора информантов были продуманы заранее. Этот тип отбора определяется как теоретическая выборка , то есть в каждом случае учитывались характеристики, которые имели теоретическое значение для последующей интерпретации данных.
Критериями отбора информантов являлись:
-
- возраст – им должно было быть на момент исследования от 20 до 30 лет. Выбор возрастной когорты объясняется статистическими данными, которые выделяют ее как группу наиболее активных пользователей ИКТ в России. 4
-
- гендер – было исследовано равное число мужчин и женщин
-
- доход – информанты отбирались по признаку максимального отличия в отношении к регулярным доходам, что могло отразить специфику использования ИКТ в разных экономических стратах
-
- образование – информанты должны были принадлежать к группам с разным образовательным ресурсом, что также может влиять на специфику использования ИКТ в повседневном взаимодействии
-
- профессиональная принадлежность – информанты должны были принадлежать к разными профессиональным группам, что, возможно, продемонстрирует различия профессионального пользования ИКТ
-
- горизонтальная мобильность – среди информантов должны были быть как коренные петербуржцы, так и мигранты, чтобы выяснить специфику пользования ИКТ в ситуации стационарного проживания и миграции.
Ограничение количества кейсов 14-ю случаями обусловлено теоретической насыщаемостью полевых данных. Выборка осуществлялась на основании приведенных выше критериев по принципу максимальной вариативности.
Полевое исследование проходило с декабря 2002 года по июль 2003 года 5.
В исследовании применялось несколько методов сбора полевого материала. Так как исследовательский проект состоял из двух этапов: множественное кейс-стади и анализ контекста, на каждом этапе применялись различные методы.
Анализ контекста, в который были вписаны исследованные случаи, имел большое значение как рамка интерпретации индивидуальных нарративов, поскольку исследованные практики напрямую коррелируют с развитием технологий, рынка услуг, тарифами и предложениями операторов сотовой связи и провайдеров интернет-услуг. Для этого были проанализированы следующие документы: газетные, журнальные, интернет публикации, посвященные ИКТ за 1,5 года, официальные интернет-сайты всех крупнейших операторов сотовой связи, а также другие ресурсы, освещающие изменения рынка ИКТ Санкт-Петербурга 6 .
Кейс-стади включало в себя слабоструктурированное интервью, спровоцированный дневник недельной коммуникации и лейтмотивное интервью по материалам заполненного дневника и записной книжки мобильного телефона. Первое слабоструктурированное интервью было сфокусировано на практиках пользования ИКТ и роли средств дистанционной коммуникации в повседневной жизни и общении информанта. Большой блок первого интервью был посвящен биографии опрашиваемого, что позволило детально описать индивидуальный профиль каждого случая. После интервью информант получал формы дневника и подробные инструкции по его заполнению. Форма дневника представляла собой таблицы, в которых информант должен был в течение недели фиксировать все значимые контакты, отмечать время, продолжительность, место и содержание контакта. Альтеры, то есть те, с кем происходил контакт, обозначались при помощи псевдонимов, выбранных информантом, а форма контакта: посредством разных технических средств или непосредственно лицом к лицу, обозначалась в предложенной исследователем системе кодировок.
Затем для каждого отдельного случая разрабатывался гид второго лейтмотивного интервью, которое включало темы, упущенные в первом интервью и вопросы, возникающие из первичного анализа дневника. Второе интервью давало возможность обсудить повседневные ситуации применения ИКТ, предметно фокусируясь на каждой из отмеченных в дневнике ситуации. Кроме того, вторая часть этого интервью представляла собой рассказ информанта о своей социальной сети, опираясь на вопросы интервьюера и данные своей телефонной книжки из памяти мобильного телефона. Сначала информант отвечал на вопросы об альтерах, с которыми он контактировал за неделю, затем вспоминал важных альтеров, которые не вступали с ним в контакт в течение недели заполнения, но являются «важными» и, наконец, обращался к электронной памяти своей телефонной книжки. В ходе интервью он заполнял специально форму, где отмечал основную информацию об альтерах своей персональной сети: имя, источник информации об альтере (дневник, память информанта, данные записной книжки), возраст, гендер, профессия, место жительства, место рождения, продолжительность знакомства информанта с альтером, место и контекст первой встречи, цепочка, если знакомство состоялось через третьих лиц, природа отношений и близость отношений. Причем рассказ информанта, сопровождающий записи в вышеуказанную форму, фиксировался на диктофон. В заключение интервью информант заполнял схему «кругов близости», где самые близкие альтеры его сети схематически находились рядом с ним, а наименее близкие на периферии.
Применяя подобную методологию, я получил уникальные по полноте данные о практиках использования разными каналами коммуникации и о социальных сетях каждого информанта.
Для интерпретации данных я использовал метод «профильной оценки», предложенный Вернером Фукс-Хайнтритцем: в каждом случае в основе профильного оценивания лежит предположение, что отдельные места из интервью должны интерпретироваться для себя и прямо могут быть соотнесены с соответствующими местами из другого интервью (Фукс-Хайнтритц, 1994: 31). Я выбирал фрагменты
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2006 нарративов, посвященных контролю и микрофизической власти и сравнивал их с данными дневников, затем приходил к «профильному сравнению» разных кейсов.
Таким образом, к участию в проекте было привлечено 14 челове к7 . Информанты рекрутировались через персональную сеть исследователя. Они имеют относительно различный биографический background. Их жизненные проекты значительно отличаются по многочисленным параметрам. В исследовании участвовали люди с доходом от 100 (случай 4) до 1000 долларов (случай 2 и 5), с образованием от среднего (случаи 2 , 4 , 8 и 11) до поствузовского (аспиранты – случаи 6, 9, 10), коренные жители Петербурга (случаи 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11) и мигранты (случаи 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14), студенты и домохозяйки, программисты и профессиональные спортсмены, люди с многолетним опытом пользования ИКТ (например, случаи 5 и 7) и, включившиеся в сети пользователей мобильной телефонии и интернета совсем недавно (случаи 1 и 12). При отборе информантов был соблюден гендерный баланс: семь женщин и семь мужчин участвовали в исследовании. Некоторые информанты (1, 3, 4, 5) принадлежали к одной сети. В случаях 3 и 13 у информантов есть дети. Случаи 9 и 10 являются семейной парой, причем они заполняли дневники параллельно.
В ходе проекта было собрано 28 интервью (по два интервью от каждого информанта) и 14 дневников. Они составили два массива данных: лейтмотивные интервью и дневники повседневной коммуникации.
Хотя в исследовании было проанализировано только 14 случаев, в результате были получены достаточно объемные данные. В частности я получил информацию о 710 альтерах 14 персональных сетей, данные о 775 контактах с участием 911 альтеров, состоявшихся у 14 информантов в течение недели заполнения дневника.
Я сконцентрировал свое внимание на изучении корреляции между практиками пользования различными каналами коммуникации и характером (природой) этой коммуникации.
Дневниковые данные, размещенные в Таблице 1, дают представление о пользовании различными каналами коммуникации каждым из информантов в течение недели.
Таблица 1. Соотношение числа контактов лицом к лицу и контактов посредством различных ИКТ каналов за неделю по данным 14 дневников
|
случаи |
«лицом к лицу» |
через совокупн ость ИКТ |
стаци онарн ый телеф он |
мобильн ый телефон |
SMS |
электро нная почта |
факс |
тради цион ная почта |
ICQ и другие системы “in real time” |
отношение числа ИКТ контактов к числу контактов «лицом к лицу» |
|
1 |
15 |
35 |
15 |
7 |
6 |
6 |
0 |
0 |
1 |
2,3 |
|
2 |
10 |
87 |
23 |
50 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,7 |
|
3 |
24 |
47 |
26 |
13 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1,9 |
|
4 |
17 |
37 |
21 |
15 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
|
5 |
16 |
40 |
17 |
8 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|
6 |
19 |
28 |
2 |
12 |
1 |
5 |
0 |
0 |
8 |
1,5 |
|
7 |
21 |
61 |
30 |
24 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2,9 |
|
8 |
16 |
35 |
6 |
13 |
5 |
4 |
0 |
0 |
7 |
2,2 |
|
9 |
13 |
38 |
11 |
9 |
9 |
5 |
0 |
4 |
0 |
2,9 |
|
10 |
8 |
30 |
6 |
5 |
8 |
11 |
0 |
0 |
0 |
3,7 |
|
11 |
25 |
26 |
7 |
13 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
|
12 |
2 |
43 |
4 |
21 |
16 |
0 |
0 |
2 |
0 |
21,5 |
|
13 |
38 |
25 |
1 |
17 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0,6 |
|
14 |
4 |
22 |
9 |
7 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5,5 |
|
Итого: |
228 |
554 |
178 |
214 |
96 |
41 |
1 |
6 |
18 |
4,2 |
Максимальное число контактов, зафиксированных за неделю, составило 97 (случай 2), минимальное – 26 (случай 14).
В течение недели большую часть контактов с альтерами 20-30 летние молодые люди и девушки осуществляли посредством разных информационно-коммуникационных технологий. Информанты в среднем в 4 раза чаще коммуницировали посредством ИКТ, чем общались «лицом к лицу». Это очень важная тенденция говорит о том, что ИКТ играют принципиальную роль в современных практиках коммуникации. В интервью почти все информанты отмечали, что контакты «лицом к лицу» имеют для них наибольшее значение. Они подчеркивали вспомогательную роль ИК-средств для своего общения:
«Ну, обычно я звоню только для того, чтобы договориться о встрече. То есть для меня личное общение гораздо интереснее, чем общение по телефону. Вот… Я или звоню, или можно SMS-кой договориться» (случай 5 - муж., 29 лет, программист)
Однако данные дневников показывают, что только в одном случае информанта 13, контактов «лицом к лицу» было количественно больше чем контактов через различные ИКТ. В остальных случаях дистанционная коммуникация происходит значительно более часто, чем встречи «лицом к лицу», в некоторых случаях (12) более чем в 20 раз чаще.
Таким образом, можно говорить о информационно-коммуникационных технологиях как о исключительно значимых инструментах повседневного взаимодействия.
Из ИК-средств наибольшей популярностью среди 20-30 летних молодых людей и девушек, проживающих в Петербурге, пользуется мобильный телефон, сразу за ним – стационарный телефон и потом, с большим отрывом, электронная почта (кроме случая 10, где она была преимущественным способом контакта), потом - традиционная почта и факсимильные сообщения. Однако во всех исследованных случаях факс применяется только по рабочей необходимости, практик применения факса для личной переписки не зафиксировано.
Данные исследования показывают, что в среде петербургской молодежи пользование традиционной почтой исчерпывается пересылкой официальных бумаг, только в двух случаях мигрантов (9 и 10) традиционная почта продолжает играть важную коммуницирующую роль для связи с родственниками, живущими в других городах, причем информанты подчеркивают эмоциональную важность этого канала коммуникации:
« … я продолжаю считать бумажные письма более личными, чем электронные. <…> если есть возможность что-то написать от руки, то я пишу от руки и посылаю бумажные письма. Плюс еще родственники жены, у них нет возможности получать email в Балаково, и туда она пишет письма от руки ». (случай10 – муж, 24 года, аспирант)
В случае 12, информантка также регулярно использует традиционную почту, но при этом говорит, что предпочла бы использовать SMS-переписку, но подавляющее большинство альтеров ее сети, находящиеся в других городах, не имеют мобильных телефонов. То есть к написанию писем ее побуждает отсутствие других приемлемых средств коммуникации на большом расстоянии (она является одной из двух информантов, не имеющих навыков пользования электронной почтой).
Современные технологии дистанционной коммуникации, такие как мобильный телефон и электронная почта, постепенно вытесняют традиционную почту как коммуникационный канал из повседневных практик молодых жителей Петербурга. Это наглядно отражено в Таблице 1: в абсолютных числах контактов через e-mail, ICQ и IRC почти в пять раз больше, чем контактов посредством традиционной почты. Кроме того, во всех исследованных случаях не зафиксировано ни одного примера пользования телеграфом.
В Таблице 2 показано соотношение длительности контактов «лицом к лицу» и контактов посредством различных ИК-технологий. Несмотря на то, что частота контактов через ИКТ численно больше, время в среднем на них затрачивается в четыре с лишним раза меньше, чем на общение «лицом к лицу». Выпадающим является только 14 случай, в котором информантка за неделю заполнения дневника около 100 минут проговорила по стационарному телефону, общаясь «лицом к лицу» за этот же период всего 115 минут.
Таблица 2. Соотношение длительности контактов лицом к лицу и контактов посредством различных ИКТ каналов за неделю по данным 14 дневников
|
случа и |
лицом к лицу (в мин.) |
контакт ы через ИКТ (в мин.) |
стационар ный телефон (в мин.) |
мобильн ый телефон (в мин.) |
SMS (в мин.) |
электрон ная почта (в мин.) |
факс (в мин.) |
традиц ионная почта ( в мин.) |
ICQ и другие системы «in real time» (в мин.) |
Отношение длительност и встреч лицом к лицу к длительност и контактов через ИКТ |
|
1 |
1495 |
371,5 |
213 |
7,5 |
6 |
135 |
0 |
0 |
10 |
4 |
|
2 |
841,5 |
273,6 |
202 |
43,6 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
|
3 |
1043 |
236,5 |
150 |
14,5 |
12 |
60 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
|
4 |
1015 |
211 |
165 |
44 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,8 |
|
5 |
1265 |
160,6 |
136 |
5,59 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7,9 |
|
6 |
279 |
88,9 |
36 |
22,65 |
2 |
10 |
0 |
0 |
18,25 |
3,1 |
|
7 |
3292 |
623 |
542 |
54 |
10 |
15 |
2 |
0 |
0 |
5,3 |
|
8 |
860 |
417,1 |
31,5 |
42,6 |
10 |
80 |
0 |
0 |
253 |
2,1 |
|
9 |
707 |
199,5 |
91 |
7,53 |
18 |
18 |
0 |
65 |
0 |
3,5 |
|
10 |
812 |
153,3 |
43,1 |
3,2 |
16 |
91 |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
|
11 |
617 |
60,35 |
30 |
18,35 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,2 |
|
12 |
243 |
92,05 |
24,95 |
29,1 |
30 |
0 |
0 |
8 |
0 |
2,6 |
|
13 |
1328 |
128,8 |
3 |
28,77 |
6 |
30 |
0 |
0 |
61 |
10,3 |
|
14 |
115 |
144,8 |
101,8 |
12,92 |
10 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
|
13912,5 |
3160,9 |
1769,4 |
334,3 |
174 |
466 |
2 |
73 |
342,2 |
4,8 |
Эти данные говорят о месте, которое занимает мобильная телефония и прочие ИКТ в повседневной жизни молодых жителей Петербурга. Они плотно вошли в ткань повседневности, но носят вспомогательный характер, то есть применяются, когда
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2006 общение «лицом к лицу» по каким-либо причинам невозможно. Это подтверждается и материалами интервью:
«Ну, да, конечно я много болтаю по городскому телефону. Еще, между прочим, у меня дома есть электронная почта, и по мобильному я частенько разговариваю. Есть такие люди, с которыми просто нет иной связи». (случай 1 - жен., 24 года, помощник редактора)
Или:
«Телефон я воспринимаю как инструмент для того, чтобы договориться о встрече, чтобы выяснить какой-то вопрос, который немедленно нужно выяснить и что-то в этом роде. Он не для общения, собственно, дружеского» . (случай 3 - жен., 28 лет, переводчик)
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии, в представлениях и практиках молодежи Петербурга, прежде всего, являются дополнительные каналами, которые задействуют при необходимости срочной связи или при отсутствии возможности видится «лицом к лицу» по временным, пространственным или психологическим ограничениям.
Анализ повседневных практик пользования ИКТ, позволяет выделить набор основных функций, которые им предписываются в повседневной коммуникации. Если обратиться к практикам пользования самой популярной ИК-технологии – мобильному телефону, то можно сказать, что одна из основных функций мобильного телефона – поддержка взаимодействия внутри социальной сети пользователя:
«Для чего я купила? Ну, не знаю... В общем-то, давно хотелось иметь такую возможность, чтобы мне могли позвонить. Иногда бывает обидно, что вот там человек звонил, хотел куда-то позвать или придти, а телефон был занят или тебя дома не было. Вот для таких вот вещей» . (случай 1 - жен., 24 года, помощник редактора)
Интересно, что присутствие на петербургском рынке одновременно семи операторов сотовой связи создает ситуацию, когда реально существующие группы воспроизводят себя, подключаясь к одному оператору:
«Вопрос: А почему именно этот оператор?
Ответ: Ну, потому что у всех друзей этот оператор. Я думаю, что это имело решающее значение». (случай 1 - жен., 24 года, помощник редактора)
То же самое, происходит с интернет-коммуникацией: молодые люди и девушки, принадлежащие к одному кругу общения, часто используют один и тот же сервер, общаются через определенные чаты, используют ту или иную программу общения «in real time».
Кроме того, мобильный телефон очень часто используется молодежью для координации совместных действий:
«Координация. Я думаю, да, это наиболее важная функция. Потому что мы звоним, или я звоню мужу, и договариваемся, где мы встречаемся в течение дня. Скажем, если мы не можем договориться об этом утром. А такое случается довольно часто, мы в разное время уходим на учебу, или на работу, и так получается, что утром мы не общаемся практически. То есть, например, я ухожу, он еще спит, или он уходит, я еще сплю. Такое бывает довольно часто, и поэтому вот уже первый наш контакт в течение дня это, как правило, по телефону, по мобильному». (случай 9 - жен., 23 года, аспирантка)
Дневники показывают, что мобильный телефон в основном применяется для соотнесения себя во времени и пространстве с другими членами социальной сети. Длительных разговоров по нему не ведется (средняя продолжительность чуть больше одной минуты). Основные темы: выяснить кто где находится, когда можно встретиться, что нужно купить. Для разговоров, которые требуют большей продолжительности, используют стационарный телефон.
Другая немаловажная функция - эмоциональная поддержка сети (случаи 1, 5 – шуточные SMS, случай 10 – звонки к друзьям в родной город в критические моменты жизни). Мобильный телефон позволяет поддаться мгновенному порыву и напомнить друзьям о своем существовании, поддержать других в трудной ситуации.
Однако есть и обратная сторона: эмоциональные усилия для поддержания связей в социальной сети при наличии мобильного телефона сводятся к минимуму, ответственность за поддержание сети кардинально сокращаетс я8 . Владелец мобильного телефона может в любой момент, без риска испортить отношения, нарушать свои обязательства, опаздывая на встречу, или как-то иначе изменять достигнутые ранее договоренности. Ему достаточно сделать звонок, ожидающему его альтеру и проблемная ситуация будет разрешена через оправдания. Причем это произойдет в самом процессе разрешения трудной ситуации, а не по его окончании.
Помимо вышеперечисленных, можно выделить еще некоторые ситуации, в которых мобильный телефон наиболее востребован:
-
- мобильный телефон выполняет функции по обеспечению безопасности (за рулем – случаи 2 и 3, на улице – случай 4, при прохождении бюрократических барьеров – случай 11),
-
- мобильный телефон заменяет домашний стационарный телефон в случае его отсутствия (случай 13),
-
- пользование определенными моделями мобильных телефонов может быть прочитано как социальный маркер принадлежности к той или иной статусной группе.
-
- в ряде случаев информанты используют мобильный телефон для работы. Это может происходить на договорных условиях с начальством, которое оплачивает звонки, или роуминг-счета (случай 5), дает мобильный аппарат в пользование (случай 4). Или если заработок информанта зависит от надежности его связи с клиентами (случай 7), он сам выбирает оператора и тариф, максимально отвечающий его профессиональным интересам.
Мобильный телефон принадлежит к таким предметам повседневной жизни, которые наделяются особым социальным значением. Начав использовать его в повседневной жизни человек в большинстве случаев уже не может обходиться без него, не испытывая при этом дискомфорта. Мобильный телефон становиться инструментом, посредством которого человек в любом месте может активировать свою социальную сеть, решить возникающие вопросы по мере их возникновения. Поскольку мобильный телефон не только канал коммуникации, но и база данных о сети (электронная телефонная книжка), он как вещь обладает социальным измерением. Он может быть инструментом контроля (подарки телефонов женам), он может быть инструментом, обеспечивающим безопасность (авария на дороге), он может быть элементом престижа, маркером принадлежности к определенной среде (выбор оператора, выбор модели).
Основываясь на анализе содержания разговоров по мобильному телефону, я выделил пять групп ситуаций, наиболее характерных для его применения:
-
• координация совместных действий (например: договоренности о месте и времени встречи; напоминание купить что-либо в продовольственном магазине; просьба открыть входную дверь, когда домофон сломан и т.п.)
-
• «ухаживающие звонки» (например: с целью узнать «как дела?», «все ли в порядке?», «как ситуация на дорогах?», «добрался/лась ли до места?», или поздравления с праздниками, или сообщение информации, что сейчас по ТВ идет хороший фильм и т.п.)
-
• помощь и консультации (например: узнать телефонный номер врача, парикмахера, или уточнить технические характеристики необходимого авторемонта, или узнать расписание паспортного стола, или просьбы в оказании помощи при переезде, а также просьбы о помощи при плохом самочувствии)
-
• деловые ситуации 9 (например: ситуации связанные с квартирным ремонтом и необходимостью покупки стройматериалов, ситуации связанные с вторичной занятостью)
-
• сложноопределяемые ситуации (ситуации, где микшируются признаки вышеприведенных ситуаций)
Количественный подсчет применения мобильного телефона для провоцирования и разрешения различных ситуаций повседневного взаимодействия отражен в Таблице 3.
Таблица 3 Соотношение содержания разговоров по мобильному телефону за неделю заполнения дневника по данным 14 дневников
|
Ситуации использования МТ |
Количество контактов |
|
координация |
121 (56,5%) |
|
«ухаживающие звонки» |
47 (22%) |
|
помощь и консультации |
21 (9,8%) |
|
деловые |
16 (7,4%) |
|
сложные случаи |
9 (4,2%) |
|
Всего |
214 (100%) |
Данные Таблицы 3 наглядно демонстрируют, что молодые люди и девушки, проживающих в Петербурге, в более чем в 50% случаях пользуются мобильным телефоном для координации совместных действий. Звонки и перезванивания стали постоянной практикой, которую можно наблюдать в транспорте и на улицах, в кафе и кинотеатрах. Постоянные согласования своего места в пространстве является неотъемлемой частью жизни пользователя мобильной телефонии.
Значительную часть (22%) составляют так называемые «ухаживающие звонки». Они представляют собой очень интересный феномен сообщений не несущих прямой фактологической информации, а направленных на поддержку эмоциональной связи между звонящим и абонентом. До распространения такого ИКТ как мобильный телефон люди не имели возможности в любом месте и в любое время подчеркивать свою эмоциональную связь с дистанционно удаленными «значимыми другими». Материалы исследования показывают, что сейчас «ухаживающие звонки» стали повседневной практикой подавляющего числа пользователей мобильной телефонии. Бессмысленные на первый взгляд обращения «Где ты?» или «Все у тебя хорошо?» подчеркивают эмоциональную вовлеченность в отношения и постепенно становятся нормой взаимодействия.
Очень часто функцию «ухаживающих звонков» принимают на себя SMS-сообщения. SMS являются третьей по популярности формой ИКТ, которую используют 20-30 летние жители Петербурга, которая уступает только разговорам по мобильному и стационарному телефонам.
Таблица 4 Соотношение содержания SMS за неделю заполнения дневника по данным 14 дневников
|
Ситуации использования SMS |
Количество контактов |
|
«ухаживающие сообщения» |
48 (50%) |
|
координация |
37 (38,5%) |
|
помощь и консультации |
9 (9,4%) |
|
деловые |
1 (1%) |
|
сложные случаи |
1 (1%) |
|
Всего |
96 (100%) |
Таким образом, самыми распространенными SMS-сообщениями являются тексты: «Спросил ее, как себя чувствует ее мама, не выписали ли ее из больницы» (случай 5) или «Спросил, как она себя чувствует после гулянки» (случай 11), или «Вова пожелал мне доброго утра» (случай 12). А также различные шутки, розыгрыши и поздравления с праздниками, которые я аналитически объединяю в общую группу «ухаживающих сообщений».
Стоят SMS в среднем в два раза дешевле, чем минута разговора по мобильному телефону, к тому же к ним не применяются надбавки за роуминг. Поэтому многие информанты пользуются SMS для связи с удаленными абонентами, например, друзьями, живущими в других странах (случаи 1, 2, 3, 11) или родственниками в других городах, что особенно часто используется мигрантами (случаи 6, 9, 10, 12, 13).
Кроме того, SMS применяется и в тех случаях, когда человек по той или иной причине хочет избежать прямого контакта с альтером своей сети. Например, в случае 7, когда информант поссорился со своей девушкой, он предпочел коммуницировать с ней посредством SMS:
«Очень часто я пользуюсь (SMS – Б.Г.), когда мне не хочется лично поздравлять человека с днем рождения. Я посылаю формальное поздравление SMS-кой. Ну, в основном, здесь дело даже не в финансах, а просто, если мне не хочется с человеком говорить. Например, тут я со своей девушкой поругался, ну, и послал ей несколько раз SMS-ки «Я тебя люблю». Такие формальные сообщения, когда не хочется лично говорить. Но иногда не лень и самому что-то набрать. Даже достаточно часто». (случай 7 – муж., 28 лет, юрист)
То есть, можно сказать, что использование SMS зависит от характера отношений с адресатом. Возможно, SMS коммуникация является маркером менее значимых отношений, и связана не только с практиками экономии. Хотя в большинстве случаев информанты объясняют свое пользование SMS именно экономическими причинами. Например, информантка 9 говорит в интервью, что сейчас значительно меньше стала пользоваться SMS, поскольку стоимость звонков стала ниже:
«То, что раньше мы могли переписываться для того, чтобы сэкономить, сейчас те же самые деньги могут уходить на то, чтобы поговорить. То есть это не будет дороже, чем писать SMS». (случай 9 - жен., 23 года, аспирантка )
Кроме того, некоторые пользователи мобильных телефонов считают, что SMS является более приемлемой формой коммуникации, чем просто звонок, когда хочешь подчеркнуть свое внимательно-вежливое отношение к приватности абонента:
«Вопрос: А SMS пользуешься?
Ответ: Да. Мне очень нравится, что есть SMS, потому что я действительно не люблю звонить по телефону, а здесь есть возможность писать. Потому что, если ты звонишь, ты вторгаешься. Ты не знаешь, что человек делает, чем он занят. Ну, конечно, ничего страшного: или он не ответит, или попросит перезвонить. Но все равно неприятно. Ты своим звонком вторгаешься. А SMS-кой… она пришла и пришла. Когда захочет, он ее прочтет и ответит. Мне так комфортней, написать и ждать ответа, захочет, ответит». (случай 3 - жен., 28 лет - переводчик )
Или другой нарратив:
«SMS-ка хороша тем, что человек ею не захватывается врасплох. Ты можешь позвонить человеку, а он не готов отвечать тебе прямо сейчас. А так он может в спокойной обстановке, когда у него появляется минутка свободная, ответить. Если дело не очень срочное, то это очень хороший способ». (случай 5 – муж., 29 лет, программист)
Однако, по материалам дневников, подавляющее большинство информантов (за исключением случаев 5 и 10) предпочитают звонить по мобильному телефону, чем писать SMS.
Все информанты, участвовавшие в исследовании, не видят для себя возможности отказаться от пользования ИКТ в целом и в частности от услуг мобильной телефонии. Она стала неотъемлемой частью повседневности. Отсутствие мобильного телефона воспринимается болезненно:
«Я вообще сейчас не могу себя представить без сотового телефона. И дело даже не в том, что меня кто-то не может найти, а в том, что когда я без него нахожусь, я чувствую себя потерянным. Ну, просто то, что я без связи и мало ли кому я понадоблюсь срочно по работе или не по работе – мама, например, позвонит. У меня были такие моменты, когда я оставался без телефона. Терял там. Когда телефон у меня пропадал. И я две недели находился без сотового телефона. Я просто себя чувствовал потерянным. Просто я не знал, как мне делать, что мне делать?» (случай 7 -муж., 28 лет, юрист)
То есть информант с утратой мобильного телефона терял ощущение уверенности в своей включенности в привычные формы социального взаимодействия: « Я просто себя чувствовал потерянным». Он попал в ловушку собственной зависимости от сетей мобильной коммуникации. Другие люди не могли предположить для себя возможность связываться с ним как-то иначе, а у некоторых просто не было других контактов, кроме номера его мобильного телефона. Целые сегменты сети на время пропали из его жизни.
Другой особенностью мобильного телефона можно считать то, что он не только способ передачи информации, но и средство для ее хранения.
«Номера телефонов я раньше хранил только в мобильном. Но один раз я из-за этого пострадал. Это из-за того, что записная книжка не в телефоне, а на SIM-карте. SIM-карта петербургского GSM «Мегафона» в Волгограде работать отказалась. Доступа к ней не стало. Я понял, как это в фантастических фильмах бывает, когда у человека забирают идентичность просто меняя его ID. То есть я попал в ту же ловушку. Я имею фильмы, когда личность человека можно украсть, украв его идентификационные данные. Это фильмы, которые говорят, почему будущее технологическое плохо. Когда человек не может попасть на свое место работы, не может снять деньги со своей карточки. Я понял, почему это плохо на практическом уровне, потому что, если бы я записал телефоны в записную книжку, у меня бы их никто не отнял. То есть сказать, что записная книжка отказалась работать – это фантастика, но… я понял. Я приехал в Волгоград и не помню не одного питерского номера. Сотовые номера, они же длинные, и я их не помню. Теперь я все телефоны, если они мне нужны, переношу на бумажный носитель». (случай 10 – муж., 24 года, аспирант)
То есть зависимость от мобильного телефона связана также с его ролью «материального воплощения социальной сети» в виде записной книжки с наиболее востребованной информацией.
«Номера мобильных телефонов длинные, и я не знаю телефонов питерских своих друзей. То есть, если меня арестовать или я попаду в больницу, и меня спросят, куда позвонить, куда сообщить, то… сотовый телефон жены я вспомню, потому что из Англии я ей отправлял SMS через интернет, набирая там номер постоянно. А так, то есть я … и в этом я вижу отрицательную вещь, что я часть важной информации доверяю ненадежному носителю». (случай 10 – муж., 24 года, аспирант)
Можно предположить, что такого рода зависимость вызвана особой ролью, которую стал играть мобильный телефон в молодежных сетях. Он стал почти обязательным атрибутом для самых разнообразных групп петербургской молодежи. Он символизирует собой современность, свободу и мобильность.
«Мобильный – это современно. Я сторонник технического прогресса. А еще я просто поняла, что это просто очень удобно. <…> Ну, в таком смысле, что если я договариваюсь созвониться с человеком, я не должна сидеть и ждать звонка. Я могу идти куда хочу. Я могу сказать просто: позвони мне! И я уверена, что он мне дозвонится, где бы я не была. Ну, практически везде. Потому что в метро не везде есть связь. Ну, я там еду не больше минут двадцати и, когда я выйду, он мне дозвонится. Он услышит, что я вышла и мне перезвонит. Это чрезвычайно удобно. «Ты позвони мне». И сиди у телефона жди? Это же связывает свободу». (случай 3 – жен., 28 лет, переводчик)
При этом важно, что, например, из семи информанток, участвовавших в исследовании, шесть получили мобильный телефон в подарок от своих мужей или бойфрендов. То есть, возможно, новая свобода и мобильность, - наоборот, связана с возрастающим контролем и властью над пользователем. Пользователь мобильного телефона доступен для контакта в любой момент и практически в любом месте, но считает эту доступность для внешнего контроля новой формой свободы 10.
Отвечая на вопросы, поставленные в исследовании, можно предположить, что
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2006 использование новых ИК-технологий (в частности мобильного телефона) изменяет формы и стили коммуникации «молодежи» Петербурга. Оно оказывает воздействие на сам характер этих взаимодействий, поскольку использование ИКТ наносит все более значительный «ущерб» «традиционным» формам коммуникации, как дистанционным -бумажной почте и телеграфу, так и непосредственно общению «лицом к лицу», которое может быть прервано в любой момент звонком мобильного телефона.
. ИКТ трансформируют структуру коммуникации. Альтеры одной сети становятся более доступны, плотность общения возрастает, облегчается возможность поддержки территориально удаленных фрагментов социальной сети (для вовлеченных в ИКТ тотально теряет значение использование традиционных каналов коммуникации на расстоянии, таких как традиционная почта или телеграф).
И: А бумажные письма пишешь?
Р: Да. Но сейчас чего-то перестала писать. Раньше маме писала. Ну, теперь проще SMS послать или позвонить. (случай12 – жен., 20 лет, студентка)
Когда появляется возможность обсуждать детали ремонта с друзьями из Израиля, путем SMS-переписки, находясь в автомобильной пробке в Петербурге, изменяется отношение к расстояниям (случай 2).
Кроме того изменения претерпевает и стиль коммуникации. Например, стиль разговора по стационарному телефону:
Р: Но в среднем где-то, я думаю, секунд 10. (трачу на разговор по мобильному телефону – Б.Г.)
И: А как ты умудряешься контролировать время?
Р: Навык. Но это буквально в теле какие-то у меня чувства. То есть я эти 5 секунд и минуту я отслеживаю. То есть из-за этого вырабатывается определенная структура разговора по сотовому, которую я переношу теперь и в разговоры по обычному телефону. (случай10 – муж., 24 года, аспирант)
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что возможности мобильной телефонии изменяют структуру повседневности путем реорганизации времени и пространства. Планы, последовательность договоренностей могут создаваться и корректироваться в текущем порядке, что в значительной степени облегчает координацию совместных действий.
Коммуникация стала проще. Но это, возможно, в некоторой степени девальвировало ценность коммуникации. Чтобы связаться с альтером сети не нужно держать в голове его распорядок дня и думать о его местоположении, достаточно нажать две кнопки на панели мобильного телефона. Подобная простота изменила характер повседневных взаимодействий в сети. В заключении уместно вспомнить замечание итальянского философа Джанни Ваттимо, который писал, что технология, которая господствует в мире нашего обитания и его формирует, характеризуется в первую очередь системами сбора и передачи информации (Ваттимо, 2003: 23), которыми собственно и являются информационно-коммуникационные технологии. Соответственно, дальнейшее изучение ИКТ может открыть новые горизонты для социологического знания.