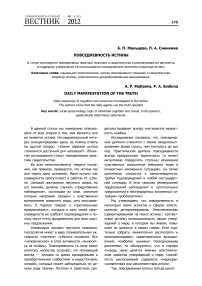Повседневность истины
Автор: Мальцева Анжела Петровна, Синикина Полина Александровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются повседневные практики познания и свидетельства и рассматриваются аргументы в поддержку утверждения об использовании повседневными агентами оператора истины.
Социальная эпистемология, логика повседневного познания и свидетельства, оператор истины, эпистемически детерминированные высказывания
Короткий адрес: https://sciup.org/14113694
IDR: 14113694
Текст научной статьи Повседневность истины
В данной статье мы намеренно отвлекаемся от всех споров о том, чем является или не является истина. Исследовательский интерес сконцентрирован здесь на поиске ответа на другой вопрос: « Каким образом истина становится доступной для человека ?». Объектом исследования станут повседневные практики свидетельства.
Во всех многочисленных теориях познания, как правило, признается, что истина так или иначе дана сознанию. Идея истины как очевидности присутствует в работах М. Шли-ка. Основой построения научного языка, по его мнению, должны служить «предложения наблюдения», состоящие из слов, значения которых напрямую связаны с чувственным восприятием внешнего мира, ими описываемого. Р. Карнап говорит о «протокольных предложениях», которые в силу своей самоочевидности не требуют подтверждения и потому могут стать фундаментом для всех научных предложений.
Анализируя процесс научного познания, гносеология имеет в виду познавательную активность «чистого» субъекта познания. Все «человеческое» в этой активности «выносится за скобки». Повседневность (в лице своих агентов), напротив, осознает, что познающий всегда — человек со всеми врожденными и приобретенными слабостями и недостатками, человек, который может заблуждаться по целому ряду причин. Поэтому в практиках сви- детельствования всегда учитывается вероятность ошибки.
Исследование показало, что повседневные деятели относятся к своим свидетельствованиям более строго, чем считалось до сих пор. Практический деятель повседневности всегда предполагает вероятность (и может интуитивно определять степень) искажений чувственных восприятий внешнего мира в конкретных жизненных ситуациях, он также критически относится к самоочевидности, требуя подтверждений в любой нестандартной ситуации. В этих смыслах обнаружение предложений наблюдения и протокольных предложений в нестандартных жизненных ситуациях проблематично.
Мы утверждаем, что повседневность в некоторых своих аспектах и сферах эписте-мически детерминирована. Эпистемическая (ориентированная на поиск истины / соответствие истине) потенциальность наших утверждений о мире, в котором мы живем, повышает их ценность в наших глазах. Если тщательно собрать, внимательно рассмотреть и проанализировать характеристики высказываний, наиболее ценимых повседневными деятелями, то обнаружится, что в первую очередь нами ценятся именно эпистемиче-ские свойства утверждений о мире, способность высказываний содержать «маркеры» соответствия или несоответствия истине.
Так, повседневные агенты всегда ценят:
— утверждения, максимально соответствующие действительности;
— утверждения, согласованные между собой;
— утверждения, за которые поручились эксперты (авторитетные люди, старейшины и т. п.);
— утверждения, следование которым делает нашу жизнь лучше (практически значимые, «полезные» утверждения);
— утверждения, подтвержденные практикой совместной жизни людей, социально значимые утверждения.
Напротив, непроверенные утверждения, информация, за которую никто не может или не желает поручиться, сведения, которые просто передаются, недобросовестные свидетельства, случаи «небрежной памяти», искажения смысла по субъективным причинам — все это ценится много меньше или не ценится вовсе.
Все вышеперечисленные «ценные» свойства утверждений свидетельствуют об их эпистемической значимости, поскольку они сходны с отличительными особенностями истины, которая определяется философами либо как соответствие утверждений действительности, либо как согласованность утверждений, или же как источник убеждений и решимости действовать. Это очень интересный момент, который указывает на сходство обыденного и «профессионального» процессов познания.
Рассмотрим кратко подходы к определению понятия истины в среде профессиональных интеллектуалов. Сразу заметим, что вопрос об истине является одним из центральных в философии, в том числе и наиболее обсуждаемым. В течение сотен лет истина являлась предметом многочисленных дискуссий, огромное количество проблем в современной философии также связано именно с феноменом истины и критериями её постижения. В последнем случае обращает на себя внимание тот факт, что сколь ни многочисленны работы современных философов истины, все они посвящены развитию идей, связанных с классическими концепциями истины — корреспондентской, когерентной и прагматической.
Напомним, что базовая идея теории корреспонденции состоит в том, что под истиной следует понимать соответствие наших представлений о вещах тому, чем они являются на самом деле. Главная идея корреспондентской теории истины может быть представлена в виде онтологического тезиса: убеждение истинно, если существует соответствующее ему бытие — факт, которому оно соответствует. При отсутствии бытия — факта, мы будем считать убеждение ложным. Под фактами в неоклассической теории корреспонденции понимают нечто, что реально существует, например, существа, организмы, организации («вещи в их собственном праве»). Это форма более старой идеи о том, что истинные знания свидетельствуют о схожести между убеждениями и миром.
Один из аспектов когерентной теории истины являет собой своего рода холизм содержания, который подразумевает, что любое отдельное знание или суждение получает свое содержание только в силу того, что является частью системы суждений. Согласно теории корреспонденции, знание (или уверенность в чем-либо) истинно тогда и только тогда, когда оно является частью последовательной системы знаний (или уверенностей). Можно добавить к этому, что утверждение истинно тогда и только тогда, когда оно является содержанием уверенности, включенной в систему, или частью системы знаний. Условие «связности» здесь важнее «последовательности как непротиворечивости». Истина далека от того, чтобы отражать окружающий мир, она лишь отвечает на вопрос: «Как знания связаны друг с другом?». Согласно этой теории, обоснованными считаются только те знания, которые стали частью согласованной системы. Считающие так исходят из убеждения, что, во-первых, знания могут согласовываться лишь со знаниями (а не с реальностью), и, во-вторых, только качества системы знаний могут быть доказательствами их (знаний) обоснованности.
У прагматической теории есть определенный лозунг: «Истина — это конец расследования / наведения справок» (в том смысле, что истинные знания завершают процесс длительного поиска лучшего выбора / решения) или «Истина — это достаточное знание» (иными словами, это то, что удовлетворяет требованиям возникновения убеждений). Истинно то, что практически значимо. Таким образом, гарантируется, что истинные знания не будут противоречить последующему опыту.
Даже беглый экскурс в историю философии истины позволяет увидеть, что наиболее ценимыми в практической жизни обычных людей оказываются те свойства высказываний, которые делают их потенциальными носителями истины, вне зависимости от того, в каком смысле («когерентном», «корреспондентском» или «прагматическом») мы используем понятие истины.
Итак, в самом общем смысле мы полагаем, что истина неизменно присутствует в нашей жизни. Понятно, что тема эта очень обширна и для ее освоения потребуются многочисленные междисциплинарные исследования. В настоящей работе мы хотим найти подтверждение гипотезе, относящейся к узкому аспекту проблемы присутствия истины в повседневности. Мы утверждаем, что, как минимум, истина используется в практиках повседневной жизни в качестве оператора, который переводит речевые высказывания свидетельства из эпистемологически недетерминированных в полностью детерминированные положения, при этом понятие истины как оператора выражает формула: «Истинно, что х ». Нам представляется очень важным понять, как конкретно это происходит, а также почему, говоря просто, истина сопровождает нас если и не повсюду, то, по крайней мере, в практиках свидетельства, без которого просто невозможно познание окружающего мира (см. нашу статью о феномене свидетельства: Симбирский научный вестник. 2012. № 1(7). С. 167—174).
Исследование показало, что утверждения, значения которых детерминированы жизненным миром / повседневностью, воспринимаются повседневными деятелями как неполноценные, если они не прошли процедуру проверки на соответствие истине. Особенно это касается ситуаций, в которых нужно принимать практически значимые решения. Маркерами неполноценности или признания утверждения неполноценным служат при этом «переспрашивания», когда передача сведений о том, что х , от А к В происходит по следующей схеме: А: « х ». В: « х ?». А: «Да, х ».
Почему же практически значимые утверждения нуждаются в такой, «окончательной», определенности? Первый, «очевидный» и тривиальный ответ: от этих утверждений, составляющих рассуждения, зависят «правильные» решения, а затем и действия, влияющие на качество нашей жизни. «Правильно рассу- ждая, я приму правильное решение», — считает обыденный деятель и проверяет свои суждения «на прочность», исследуя их на предмет истинности / ложности.
Другой ответ (на вопрос о практически значимых утверждениях) не столь очевиден: нам необходимо понимать, что мы делаем. При этом заметим, что указанная необходимость не обусловлена лишь социальной традицией и не является целиком индивидуальной прихотью. Необходимость и требование «понимать, что сейчас происходит» — не культурная установка и не групповая привычка. Кроме того, нужно сказать, что зависимость между выполнением действия и пониманием его цели и смысла — не только сознательная.
В последнем случае речь идет о том, что непонятное для нас действие или действие, цель которого нам не известна, физически невыполнимо. Доказательством этому служат известные всем нам (или, по крайней мере, очень многим людям) курьезные моменты жизни, когда, занимаясь каким-либо делом, направляясь куда-то, мы внезапно и непроизвольно останавливаемся, поскольку неожиданно для себя обнаруживаем, что не знаем / забыли, куда и зачем идем. Очень важно обратить внимание на первое, что происходит, когда агент не может ответить себе на вопрос: «Что я сейчас делаю?», — непроизвольная и не контролируемая сознанием остановка . Замерев, человек пребывает в этом положении до тех пор, пока не вспомнит, что намеревался осуществить, или до тех пор, пока не сформулирует новые цель и задачи.
Возникает вопрос: почему бы этому агенту не продолжать идти, вспоминая о пункте назначения или о цели движения по ходу действия? Но человек не может двигаться, если не знает зачем. Весьма вероятно, что здесь включается механизм, сформировавшийся в ходе эволюции. Если мы разгадаем работу этого механизма, то получим еще одно подтверждение тому, что разум человека является достоянием длительного эволюционного развития, что сознание связано не только с работой мозга, но и всего тела. Если мы сможем доказать эволюционную природу данного механизма, то получим подтверждение мысли о том, что резоны, коими оперирует рациональный субъект, — универсальны или, иными словами, что всякий разумный человек в сходных ситуациях рассуждает и действует одинаково.
Если даже поход на кухню за спичками, о которых мы почему-то забыли по дороге, контролируется сложным защитным механизмом, не позволяющим нам продолжать движение до тех пор, пока мы не вспомним, зачем начали действовать, то что говорить о сложных практических задачах, от решения которых зависит жизнь человека?! Создаваемая практическим контекстом особая важность ситуаций требует высокой определенности смыслов предпринимаемых действий.
Искомая определенность появляется лишь после исследования суждений (о будущих действиях) на предмет истинности. (Интересно, что эпистемическая (порождающая уверенности и знания) и практическая (порождающая готовность действовать) значимость суждений становится при этом неразличимой.) Такие исследования мы проводим постоянно на протяжении каждого дня нашей жизни, часто неосознанно и по инерции.
Рассмотрим далее, как конкретно происходит экспертиза утверждений в повседневной жизни людей. Прежде всего, наш взор должен быть обращен на практику свидетельствования, где наиболее часто производятся исследования утверждений на предмет их истинности или ложности.
Для начала учтем, что практика свидетельствования подчинена нормам. Нормы соблюдаются нами потому и до тех пор, пока мы уверены, что и все другие люди обычно поступают так же. Нормы свидетельствования предписывают нам проверять то, что нам сообщают, на соответствие действительности, следить за согласованностью утверждений между собой, испытывать информацию на практическую исполнимость / вероятность.
Рассмотрим случай встречи с «чудом». Если мы были свидетелем чего-то «из ряда вон выходящего», мы знаем, что нам обязательно не поверят, *если мы обладаем невысоким социальным статусом, или *если мы не можем представить еще одного свидетеля «невероятного события», или *если другой свидетель является не авторитетным человеком, или *если мы до этого хотя бы раз были обличены во лжи, или *если слушатели знают, что нам в той или иной степени, в том или ином отношении выгодно, чтобы нам поверили. Все перечисленные условия доверия свидетельству доказывают существование процедур проверок утверждений на истинность согласно совершенно четким критериям, некоторые из которых, как можно предположить, универсальны в историческом, социологическом и культурологическом смыслах.
Пойдем дальше. Если обыденный деятель / агент повседневности обнаруживает, что говорящий предъявил ложное свидетельство, он считает себя обязанным осудить лжеца. Вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента свидетельства, о факте его ложности необходимо сообщить другим людям, а при встрече с лжецом обязательно объявить ему о недобросовестности его свидетельства. Обвиняемый во лжи должен показать, что он испытывает вину, извиниться за свой поступок, предложить ему какое-то оправдание или же доказать, что он говорил правду.
Протокол «выведения на чистую воду» свидетельствует о ценности истинных суждений и высоком статусе истины в повседневной жизни. Даже оправдавшийся свидетель теряет в социальном статусе. Мы знаем поэтому, что лучше не заставлять людей сомневаться в правоте наших слов. Встреча с «чудесами» пугает социального агента еще и потому, что он знает, что не сможет об этом рассказать без того, чтобы избежать проверки своих утверждений на истинность, потенциально угрожающей его социальному статусу.
Чтобы получить право на признание истинности передаваемых сообщений, агент должен обладать определенной «квалификацией». Конечно, квалификационные требования варьируются от эпохи к эпохе и от культуры к культуре. В европейской культуре для обретения права на «эпистемическую экспертизу» повседневный деятель должен: иметь репутацию добросовестного свидетеля, не находиться на низшем уровне социальной стратификации («низший низший класс»), не быть маргиналом, не считаться умалишенным. «Откровенная», «бессовестная» ложь всегда служила здесь основанием для сомнений в здравом уме свидетеля.
Можно сказать, что мы всегда оцениваем вероятность того, о чем сообщает свидетель, вовлекаясь в ежедневную рутину поиска оснований для принятия или непринятия многочисленных и разнообразных свидетельств. Если следствия из свидетельства или сам факт, о котором сообщается, необычны, невероятны и т. п., повседневные деятели обязательно исполняют процедуру проверки утверждений при помощи оператора истины.
Рассмотрим указанную процедуру проверки.
-
(1) Допустим, свидетель сообщает: «Я видел сегодня А с В».
-
(2) «Правда?» — спрашивает слушатель, который знает, что пребывание А с В сегодня или вообще в любой день маловероятно.
-
(3) «Да. Я видел А с В», — следует подтверждение.
-
(4) «Надо же!» — следует ответ, что означает: свидетельство принято.
Кажущаяся простота переспрашивания (если речь, конечно, не идет о плохом слухе или посторонних шумах, мешающих расслышать то, что говорит свидетель) представляет собой маркер недоверия, запускающий механизм испытания сообщения на соответствие истине. Понятно, что первым эпистемический экспресс-тест проводит слушатель, обязанный решить, принимает он сообщение или нет.
Итак, этап (2) — запрос на эпистемиче-скую экспертизу утверждения. Этап (3) — действие оператора истины: «Истинно, что…».
Когда мы спрашиваем: «Правда?», или «Ты уверен?», или восклицаем: «Не может быть!», — это служит сигналом для свидетеля, что он обязан подтвердить только что сказанное. Но что стоит за этим, казалось бы, столь тривиальным и «простым» повторением того, что сказано? Оказывается, что сообщить, что х , и сообщить, что действительно х, требует разных психологических и когнитивных усилий. Свидетельствовать в обычных обстоятельствах и свидетельствовать перед лицом требования доказать правоту своих слов — разные ментальные и физические состояния.
Верное заключение о том, что происходит или что нужно делать, предполагает адекватное описание агентом ситуации. Но каким по характеру является это описание — теоретическим (рассуждение о фактах) или практическим (рассуждение о ценностях)? Анализ процедуры свидетельствования показывает, что описания повседневности имеют синтетический характер .
Обратим еще раз внимание на этот важнейший момент свидетельствования, когда слушатель, усомнившись в вероятности вещи, переспрашивает говорящего: «Верно ли, что х ?». Мы думаем, что, переспрашивая, слушатель — конечно, не отдавая себе в этом отчета и даже не подозревая об этом — требует перевести практические предложения, с помощью которых говорится истина или ложь, в теоретические предложения, которые сами по себе являются либо истинными, либо не истинными. В случае практических утверждений свидетель просто сообщает о том, что видел или слышал. В случае теоретических утверждений он должен убедиться в том, что его способности ощущения, памяти и сознания были в порядке, и что он, следовательно, не мог ошибиться, что ему не показалось, что х. Здесь проверяется адекватность интеллекта вещи, о которой свидетельствуют. Но если данное предположение верно, то это доказывает, что уже у самой повседневности в лице ее агентов имеется интуитивная и имплицитная способность различать практический и теоретический уровни свидетельствования.
Нельзя не сказать при этом о «тупиках», «парадоксах» или «ловушках» свидетельствования, когда доказательства правоты свидетельства, предъявляемые без или до требования их предъявить, становятся основанием для сомнения в истинности утверждений. Когда человек говорит, что y , мы склонны верить ему больше, чем в случае, когда, едва сообщив, что y , он начинает приводить доказательства истинности y. Опасаясь предстоящей проверки информации и из уважения к порядку свидетельствования, свидетель заблаговременно знакомит слушателя с доказательствами истины высказывания, заставляя тем самым сомневаться в своих словах. Нарушение протокола свидетельствования становится следствием признания свидетелем его высочайшего авторитета, но парадокс в том, что, нарушая протокол, излишне старательный свидетель рискует быть записанным в лжецы.
Возникает вопрос, почему в обычной жизни это работает совершенно противоположным образом, чем в специальных (прежде всего регулируемых правом) практиках, где свидетельство без предъявления доказательств менее авторитетно, чем свидетельство с доказательствами?
Пример: Если на вопрос о том, действительно ли чей-то сын не убивал человека, он сразу же после отрицания своей вины просит вспомнить, что он в это время был дома и по- тому не мог убить, ему скорее не поверят, чем в случае, когда он просто говорит, что не убивал и не предлагает (или не пытается найти) подкрепления истинности своего утверждения.
Закон доверия гласит: « Вероятность y находится в обратно пропорциональной зависимости от необходимости привлечения оператора истины ». Причем речь идет скорее не об объективной возможности y , а о социальной интерпретации вероятности y (см. о феномене доверия статью А. П. Мальцевой в Симбирском научном вестнике (2011. № 3(5). С. 158—169).
В обычных ситуациях обладание истиной создает особую уверенность свидетеля. Подтвердить, что действительно х, — значит, актуализировать авторитет истины. В подтверждении скрыт отчет об уже проделанной свидетелем работе:
— по оценке собственного состояния в момент бытия очевидцем события, о котором он свидетельствует (я не был болен, пьян, не находился под воздействием сильных лекарств, наркотиков, я не спал…);
— по оценке возможности вмешательства сторонних сил (меня никто не мог разыграть, никому не выгодно все это подстроить, мной не манипулировали);
— по оценке совместимости увиденного / услышанного и объективных условий существования вещей, людей и животных на земле (о слишком невероятном не свидетельствуют).
Практические предложения просто оповещают о том, что имеет место быть. Свидетель просто сообщает истину. Он уверен / знает, что х . Сами эти предложения ни истинны и ни ложны, поскольку с их помощью утверждается истинность х . Тот, кто соглашается или не соглашается с тем, что х , тем самым признает или не признает неистинность предложения о том, что х , а то, что х действительно имеет место.
Зачем же слушатель переспрашивает, произнося «Действительно ли х ?», «Правда ли, что х ?», «Не может быть!», «Невероятно!»? И почему он удовлетворяется, казалось бы, одним лишь простым повторением того, что х в ответ? Все дело в том, что в промежутке между этапами (2) и (3) происходит работа переведения практических предложений свидетельства в теоретические. В ходе этой работы свидетель по требованию слушателя подвергает критической проверке свои когнитивные способности на момент встречи с х. Поскольку это происходит перед слушателем, свидетель обретает объективную перспективу оценивания своих способностей адекватного восприятия действительности на момент, когда имело место х. Очень часто после перемены перспективы с субъективной на объективную свидетель отказывается от утверждения, что х имело место, или начинает сомневаться в собственных показаниях. С обретением объективной перспективы свидетель часто приходит к выводу, что ему, возможно, почудилось, поскольку он был в момент, когда х, нездоров, пьян, обманут и т. п., и он от своих слов отказывается.
Таким образом, можно утверждать, что теоретические предложения являются достоянием не только сферы науки, что в повседневности широко представлены практики «приближения к истине». Переспрашивать при возникновении любого сомнения — не простой повседневный автоматизм. Механизм сохранения «чистых вод» свидетельства особенно ярко подтверждает ценность истины в повседневной жизни людей.
Некоторые выводы. Повседневность разумна и рациональна. Рациональность как упорядоченность, согласованность норм и правил свидетельствования прослеживается в целеориентированной деятельности повседневного деятеля, она присуща внутренне целостному опыту агента практического рассуждения . Рассуждения практических деятелей и повседневные практики свидетельствования предполагают активное использование оператора истины для определения истинности утверждаемого и элиминации ложных суждений . Общим правилом повседневности является привлечение оператора истины в ситуациях необычных. Так повседневность, как однообразие дел и событий, гарантирует покой ее членам, эффективно защищая их от всего потенциально опасного. Именно ложь, неточность, преувеличение и т. п . маркируются как потенциальные угрозы спокойному существованию людей; все неистинное лишается ценности. Парадоксально, но объективность, трезвость, ясность, корректность утверждений гарантируются практиками повседневной жизни не меньше, а может, даже и больше, чем в науке, поскольку здесь изначально принимается в расчет и контролируется всеми участниками процедуры свидетельствования способность человека и намеренно лгать, и невольно ошибаться.