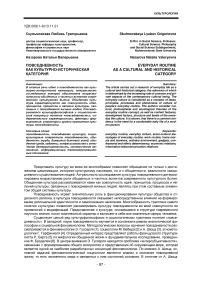Повседневность как культурно-историческая категория
Автор: Скульмовская Любовь Григорьевна, Назарова Наталья Валерьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 12, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о повседневности как культурно-исторической категории, актуальность исследования которой обусловлена возрастанием роли обыденных и частных аспектов современного культурного бытия. Обыденная культура характеризуется как совокупность идей, принципов, процессов и явлений культуры, связанных с повседневной жизнью людей. Рассматриваются культурфилософские и социологические концепции понятия «повседневность», содержательные характеристики, факторы формирования, структура и уровни проявления культуры повседневности.
Повседневность, повседневная культура, социокультурные стереотипы повседневности, обыденность труда, домашний бытовой уклад, обыденная среда, гаджеты, конфессиональная и этническая детерминированность, экономические отношения, информационные телекоммуникационные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14935981
IDR: 14935981 | УДК: 008(1-6)13.11.21
Текст научной статьи Повседневность как культурно-историческая категория
Представить культуру во всем ее многообразии позволяет обращение не только к достижениям цивилизации, историко-культурному наследию, но и к обыденности, реальности каждодневного существования людей. Актуальность исследования культуры повседневности детерминирована возрастанием роли обыденных и частных аспектов современного культурного бытия. Обыденная культура рассматривается нами как совокупность идей, принципов, процессов и явлений культуры, связанных с повседневной жизнью людей, являясь при этом составным элементом общей системы культуры.
Повседневность играет значительную роль в функционировании культуры общества и отдельного региона, а культура повседневности оказывает непосредственное влияние на формирование региональной идентичности и самосознания населения. Многообразность трактовок самого понятия «культура» позволяет рассматривать культуру повседневности во всей совокупности ее проявлений и модификаций. Представление о культуре, сложившееся в структуре современного научного знания, носит комплексный характер и включает в себя все жизненные сферы человека.
Существует целый ряд культурфилософских и социологических трактовок понятия «повседневность». В западной науке повседневность изучается в основном в рамках аналитической философии и социальной феноменологии. Методологические вопросы изучения повседневности рассматриваются в феноменологии Э. Гуссерля [1], социологии М. Вебера [2] и А. Шюца [3], этнометодологии Г. Гарфинкеля [4]. Определенный интерес представляют работы французского структуралиста Р. Барта [5] по мифологии обыденной жизни и фундаментальное исследование, проведенное Ф. Броделем [6]. В центре внимания Э. Гуссерля находится проблема «интерсубъективности», связанная с формированием общего восприятия и представления об окружающем мире, которая является одной из наиболее разработанных концепций феноменологии. По мнению А. Шюца, основной задачей феноменологической социологии является анализ и описание повседневной жизни, то есть жизненного мира и связанных с ним состояний сознания. В отличие от А. Шюца,
П. Бергер и Т. Лукман [7] в своей теории утверждали о необходимости создания самим человеком устойчивой жизненной среды с целью институционализации значений и моделей действий человека в обыденном мире. Теория повседневных конструкций действительности, предложенная Т. Лукманом, основывается на иерархии структур повседневных действий, отношений и знания. Данная теория базируется на методологической концепции понимания и интерпретации, дополненной А. Шюцем применительно к повседневности.
Г. Гарфинкель рассматривал повседневность как процесс интерпретационной деятельности участников повседневных взаимодействий и исследовал единичные (уникальные) акты социального взаимодействия, которые он отождествлял с речевой коммуникацией. Рассматривая повседневность как процесс, в котором происходит формирование человека, необходимо обратиться также к веберовской концепции повседневности. М. Вебер называет данный процесс «оповседневниванием», к которому относится процесс обживания, включающий обучение, освоение традиций, закрепление норм и правил поведения. По Веберу, повседневность как форма существования общества предполагает преемственность, традицию, воспроизводство культурного уклада, наследование типов и образцов обыденного поведения.
В отечественных гуманитарных науках изучение повседневности не имеет столь длительной традиции, как на Западе, однако в той или иной степени данная проблема рассматривается в трудах М.А. Барга, М.М. Баткина, М.М. Бахтина, М.М. Брагиной, А.Я. Гуревича, Л.Г. Ионина, Л.П. Карсавина, Г.С. Кнабе, С.С. Соковикова и других. Своеобразие повседневности как культурно-исторической категории заключается в ее локальных проявлениях на территории конкретных регионов и стран.
В качестве содержательных характеристик культуры повседневности в трудах отечественных культурологов и социологов культуры чаще всего выделяют:
-
– социокультурные стереотипы повседневности, связанные с этническими, этическими, эстетическими, морально-нравственными особенностями людей;
-
– традиционные механизмы повседневной культуры, включающие традиции, обычаи, обряды, ритуалы, компоненты повседневного бытового уклада, дом (жилище) и его особенности;
-
– типичные формы рекреации в повседневном укладе;
-
– характер включенности в повседневный быт искусства, политики, уникальных событий, то есть того, что можно назвать «высокой» культурой;
-
– внутреннюю типологию повседневной трудовой деятельности, в качестве структурных компонентов которой можно указать такие, как обыденность труда, домашний бытовой уклад, досуг и развлечения.
В различных явлениях обыденного уклада находит свое отражение специфика природногеографических условий, оказывающая определенное влияние на формирование характера повседневной культуры. Еще одним важным фактором выступает ментальность как фундаментальное основание социума, воплощаемое в повседневной культуре, в которой отражаются этническое своеобразие и национальный характер. Этнические традиции ярко проявляются в фольклоре, обрядах, ритуалах, декоративно-прикладном искусстве, дизайне интерьера и т. п. Этнокультурные нормы и ценности, культивируемые формы и способы поведения различных социальных общностей отражают этнические особенности бытового, семейного и хозяйственного уклада.
Факторами формирования культуры повседневности выступают экономические отношения. Товарно-денежные отношения, производственные технологии и характер труда оказывают значительное влияние на повседневный уклад и формируют обыденную среду. От экономической компоненты зависит разнообразие повседневной культуры, на уровне которой ярко отражается социальная структура общества. Властные отношения детерминируют культуру повседневности различных социальных групп и воздействуют на обыденный слой культуры. По мнению С.С. Соковикова, повседневность, выступая в качестве привычного, обжитого культурного бытия, является «фактором самоидентификации культуры и человека, имманентной стационарной лабораторией культуры» [8, с. 7].
В различных сферах культуры повседневность имеет разные уровни проявления. Обыденный аспект присутствует в культуре бытовых отношений, религиозной практике и трудовой деятельности. Специфическое проявление обыденного происходит в научной деятельности и художественном творчестве, религиозном культе. Конфессиональная детерминированность культуры повседневности находит выражение в регламентации обыденной жизни, культовых предписаниях различных религиозных систем, в формах и приемах каждодневного и регулярного выполнения культовых требований.
Повседневность можно структурировать по нескольким основаниям:
-
1. Реалии современной повседневной материальной жизни, к которым относятся природно-климатические условия, традиции питания, особенности жилища и интерьера, костюм и
- мода. К данной структуре также относят среду обитания (городскую среду), важными компонентами которой являются планировка и застройка города, городской транспорт, общественные здания и сооружения, улицы и их состояние, дороги, пути и средства сообщения и т. п.
-
2. Эмоциональная жизнь людей, определяемая системой их ценностных ориентаций и установок.
-
3. Социальная жизнь, связанная с определенными периодами жизненного цикла человека, включая профессиональную карьеру и уклад жизни семьи.
-
4. Ежедневное поведение, коммуникации, соблюдение соответствующих норм и правил поведения и общения.
Исходя из указанных структурных компонентов, целостное представление о культуре повседневности той или иной эпохи, той или иной страны или региона может создаваться через отображение материального, ценностного, эмоционального и социального измерения. Данная структура может быть дополнена другими элементами повседневности, например, связанными с современным развитием науки, техники и инновационной деятельности.
Информационная революция, порождая новые информационно-телекоммуникационные технологии, делает необходимым усвоение нового типа грамотности – компьютерной. Умение работать с компьютером, обрабатывать и получать с его помощью нужную информацию оказывается необходимым в современной повседневной жизни. Помимо несомненных бытовых удобств, связанных с использованием компьютерной техники в домашних условиях, она значительно облегчает поиски работы и даже позволяет создать собственное рабочее место – работу для конкретного человека с его способностями, возможностями и навыками. Современный человек, живя в обществе потребления, составляет свою жизненную программу (систему потребностей) в соответствии с глобальной потребностью – участием в коммуникативном процессе. Кроме того, что современность как таковая принципиально отличается от других исторических эпох, она формирует образ человека – потребителя – пользователя, превращающего даже само потребление в разменный ресурс. К примеру, Э. Фромм [9, с. 206] нарисовал портрет человека-потребителя, разделяя все человеческое сообщество на две группы: на тех, кто стремится быть, то есть стремится к своему всестороннему развитию, и на тех, кто стремится к безудержному обогащению, к накопительству материальных ценностей, денег, драгоценных металлов, престижных автомобилей и прочему. Этот второй тип человека Э. Фромм назвал «человек-потребитель» (Homo-consumers).
Несмотря на то что потребности имеют виртуальную обобщенную природу, они являются индивидуальным выбором каждой личности. В свете развития техники и технологий прослеживается общая тенденция в потребности комфортного повседневного существования. Стремление к комфорту обнаруживается во всем – от комфортно обустроенного жилища до социально комфортной среды. Современные технические средства даже достижение комфорта делают комфортным. К примеру, средства передвижения постоянно совершенствуются, наполняются всевозможными гаджетами, как и средства связи и коммуникации.
Находящиеся в повседневном использовании гаджеты становятся неотъемлемой частью процесса идентификации и самореализации человека. Через обладание тем или иным гаджетом человек презентует себя, создает определенный образ. Владение тем или иным предметом в большей степени, чем выполняемый род занятий, отражает социальную принадлежность или статусность. Современные вещи (гаджеты) являются продуктом потребления, причем не всегда их приобретение продиктовано функциональной необходимостью. К примеру, если вещь не несет функциональной нагрузки, но включена в повседневную жизнь человека, то, скорее всего, она выступает как символ престижа, имиджа или моды.
Как правило, не всегда наше представление о какой-либо вещи соответствует собственно сущности этой вещи. Чаще всего происходит подмена понимания сути какой-либо вещи ее стереотипным восприятием массами. К примеру, если раньше при слове «телефон» возникал образ телефонного аппарата, посредством которого можно было связаться с абонентом, то сейчас этот образ размыт. Телефон – это уже не столько средство связи и коммуникации, а, скорее, атрибут успешности, «модности и грамотности», как и многие другие современные вещи, это средство связи выполняет функцию идентификатора человека.
В настоящее время сложно представить жизнь вне связи с мобильным телефоном. Образ жизни современного человека все больше сужается до стиля жизни, а средства связи и коммуникации все больше приобретают функционально-символический смысл. К примеру, в современном кинематографе достаточно историй, в которых телефон играет роль «портала» или конвертора, проводника в потусторонний мир и т. д. (фильм «Матрица» яркое тому подтверждение). Вся жизнь современного человека заключена в телефонной книге мобильного телефона, в органайзере и социальных сетях. При этом появляются особый стиль общения по мобильному телефону, понятийный аппарат и «этика общения». Причем иногда непосредственное общение с собеседником отходит на второй план по сравнению с общением через мобильный телефон. Иными словами, как считает В.В. Коренев, современный человек стал «homomobilis» [10].
Понятно, что мобильная связь – это, скорее, характеристика современного течения жизни, изначально продиктованная функциональной необходимостью. Логика течения современности в контексте повсеместного потребления предполагает появление такой вещи, которая не только отвечала бы всем требованиям человека-потребителя, но и отражала бы одну из характеристик современного общества в целом. Мобильный телефон не дает человеку то, к чему он так активно стремился, расширяя коммуникативные возможности, – с его помощью коммуникация становится поверхностной, лишенной смысловой глубины. Мобильный телефон, выполняя функцию проводника и ориентира в мире информации, зачастую дезориентирует человека, лишает его навыков ориентации и выживания в среде.
По сути дела, мобильный телефон воплощает великую иллюзию современности, – подчинение времени и пространства, но, как и любой другой элемент современной цивилизации, он становится средством получения прибыли в системе потребления, средством манипуляции сознанием человека. И чем больше неудобств создается в процессе обладания телефоном, тем больше человек от него зависим (например, баланс счета, зона доступа и т. д.). В принципе, такая тенденция прослеживается и в отношении многих других вещей современности, скажем, в отношении сигарет, пива, жевательной резинки и т. д. Само обладание вещью заменяет необходимость в этой вещи, ее пользу или вред. Вещь только тогда приобретает значимость в качестве объекта обладания, когда фактически лишена содержательной (функциональной) нагрузки и становится своего рода «симулякром» (к примеру, сотовый телефон со встроенной фотокамерой, интернетом, телевизором, радио и т. д.). Устремления человека связаны с «наличием», а не с качеством.
С появлением средств мобильной связи процесс коммуникации и упрощается, и усложняется одновременно. Чаще всего специфика общения предполагает появление особого языка и символов, которые в какой-то мере эмоционально окрашивают отсутствие непосредственного контакта (смайлики, «лайки», коды, слоганы и т. д.). Помимо этого, разворачивается целая индустрия, производящая гаджеты для гаджетов (чехлы и сумочки, шнурки и брелоки, одежда с кармашками для сотовых телефонов и т. д.). Словом, индустрия производит не столько сами гаджеты, сколько формирует потребительские привычки обладания. По сути, мобильный телефон выступает как «пульт управления» распорядком жизни (и самой жизнью) людей [11, с. 273].
Кроме элементов материального производства в настоящее время особый интерес для исследователей культуры повседневности представляет анализ индустрии современного духовного производства, особенностей создания образцов массовой культуры, неразделенных форм культурной коммуникации (фольклор, дружеское общение, сфера обыденного сознания и прочее). Повседневность, выступая основной и необходимой предпосылкой социокультурных исследований жизненного мира как особой формы познания человеческого бытия, требует дальнейшего изучения с позиций культурологического анализа соотношения повседневного и экстраординарного, взаимосвязи повседневного и уникально-событийного пластов культуры в контексте конкретно-исторических условий того или иного региона или страны в целом.
Ссылки:
-
1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. 1992. № 7. С. 137–169.
-
2. Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. ; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М., 1990.
-
3. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1989. № 2. С. 129–137.
-
4. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007.
-
5. Барт Р. Мифологии / пер., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина. 3-е изд. М., 2010.
-
6. Бродель Ф. Структуры повседневности : Возможное и невозможное // Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. : в 3 т. М., 1986.
-
7. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : Трактат по социологии знания. М., 1995.
-
8. Соковиков С.С. Культура повседневности. Челябинск, 2002.
-
9. Фромм Э. Психоанализ и религия. Искусство любить. Иметь или быть? Киев, 1998.
-
10. Корнев В.В. Вещи нашего времени: элементы повседневности. Барнаул, 2010.
-
11. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006.