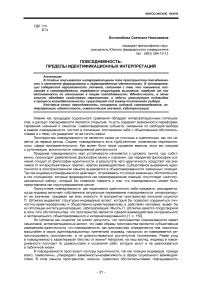Повседневность: пределы идентификационных интерпретаций
Автор: Боголюбова Светлана Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается интерпретативное поле пространства повседневности в контексте формирования и переопределения идентичности. В интерпретации содержится вариативность значений, связанная с тем, что понимание, возникшее в самоопределении, передается структурам мышления, требует от них автономности по отношению к вещам повседневности. Идентичность, в этом смысле, обладает свойствами первоистока, а задачи, реализуемые индивидом в процессе жизнедеятельности, существуют под знаком постоянного выбора.
Повседневность, понимание, индивид, самоопределение, интерпретация, идентичность, символические значения, хабитуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14933078
IDR: 14933078
Текст научной статьи Повседневность: пределы идентификационных интерпретаций
Знание как процедура социального сравнения обладает интерпретационным потенциалом, и дискурс повседневности является открытым, то есть содержит возможности переформатирования значений и смыслов. Самоопределение субъекта, связанное со свободой выбора в рамках повседневности, состоит в полагании, соотнесении себя с объективными обстоятельствами и с теми, кто разделяет те же тяготы жизни.
Пространство повседневности не является таким уж плотным и сцепленным, как это кажется на первый взгляд. Скорее, повседневность есть турбулентная, отмеченная неритмичностью, сфера жизнедеятельности. Как может быть такое суждение верным, если мы говорим о рутинизации, монотонности повседневной деятельности.
Придание повседневности черт устойчивости начинается с узлового пункта, где, собственно, происходит разветвление философии языка и сознания, где парадигма философии сознания отходит от философии идентичности, в результате чего идентичность предстает как значимое от интерсубъективных практик, практик взаимодействия. Субъективное выражение идентичности в пространственном смысле выражается в объективированности жизненных позиций. Так как индивид в повседневности действует, отталкиваясь то логики жизненных обстоятельств, в тех отношениях, которые формируются как переопределение позиций, отсутствует «институциональный набор», который бы позволил говорить о том, что повседневность может быть представлена как структурированное целое.
Присутствие повседневности, как неделимого идентичного себе предмета, распадается, когда индивид включает собственные актуальные переживания повседневности, интерпретирует ее значение, придавая им знак инакости. В восприятии пространства польский социолог П. Штомпка выдвигает структурно-индивидный аспект, который бы позволил соединиться личностно-ориентированному и общественно-ориентированному в действиях человека; вывел бы из оппозиции институционализация, хабитуализация. Мысль П. Штомпки кажется плодотворной в силу того обстоятельства, что пространство является сферой взаимодействия интернального и экстернального, объективированного и интернализированного [1, с. 150].
Но Штомпка как социолог не может допустить, что пространство повседневности имеет смысловой, интерпретационный аспект, что сами образы пространства являются субъективным измерением идентичности, что повседневность, как пространство, определяется тем, насколько масштабен в своих идентификационных претензиях индивид, насколько он намеревается реконструировать пространство, а не довольствоваться достигнутым положением. Разве уход в повседневность характеризует бегство от жизни? Напротив, на наш взгляд, индивид в повседневности получает те удовольствия и осознания себя, которые могут и не реализоваться в публичной жизни.
В повседневности проступают контуры идентичности, так как позиции индивидов, прежде всего, символичны, утверждают зависимость/независимость в сфере социального взаимодействия. В этом смысле пространство, конечно, скреплено обстоятельствами; повседневность как пространство не является возвращением к традиции. Если это предположение и не является полностью истинным, нужно возвратиться к тому, что в современном обществе пространство многомерно, оно лишено той плоскостности, низа человеческой жизни, которое придавали ей классические традиции.
В повседневности недоверие к непосредственному сменяется готовностью принять повседневность в качестве совместимой с идентичностью. Наоборот, любой «критический» анализ идентичности буквально требует анализа понятий, взятых из повседневной языковой практики в реальности, отделяющей сложности пространственного восприятия. Можно привести аргументы функциональности, когда условия игры (по Бахтину) ничем не отличаются от норм общения и са-мокарнавальность предстанет как оборотная сторона повседневности. Можно также предположить, что повседневность влияет на идентификационный дискурс тем, что определяет те пределы, за которые индивид не может выйти, пусть и в несерьезной социальной игре.
Российский исследователь И. Мюрберг, анализируя ницшеанство, отмечает, что именно с привязкой к высшему сопряжены самые главные проблемы человечества, его рабская зависимость от абсолютов и самых измышленных, и на протяжении тысячелетий удерживающих свою власть над ним, будь то ценности религиозно-христианские, либо отвлеченнометафизические [2, с. 145]. В повседневности индивид не может абстрагироваться сам от себя, а если под таким ракурсом описывать идентификацию, выходит, что интерпретации противостоит беспристрастное объективное знание, знание, которое руководствуется поиском факторов и забывает о действенности самого человека [2, с. 146].
В том, что идентичность являет собой конфигурацию позиций, в которых участники обмениваются символическими значениями, в том, то в повседневности проявляется воспроизводство индивидов, как привязанных к определенным социальным зависимостям, точнее, к тем влияниям, которые реализуются в логике самоопределения, отмечается, что, несмотря на тривиальность утверждения о существования в пространстве всех в качестве равных, следует еще раз обратиться к тому, что идеальное измерение взаимопонимания и соглашения отнюдь не фиксируются в позициях индивида.
В повседневности, как ни странно, отмечаются процессы радикализации, переопределения: те, кто был своими, могут стать чужими. Если индивид разочарован в самопринадлежно-сти, возникает процесс переключения на другую группу. Но может сложиться и так, что самоопределение остается в рамках собственного личностного опыта, а наличное социальное знание отклоняется.
Положительный смысл и конструктивная роль интерпретации содержится в процессе изменения «я». Эти изменения не выглядят радикальными на фоне институциональных подвижек. Так, можно заключить, что интерпретация есть необходимое условие субъективной свободы, а трактовки пространства содержат различные коннотации, кроме тоталитарной. Индивидуально-личностные представления о самоопределении, о повседневности не вполне персонализированы, но связаны с социальной позицией индивида.
Рассматривая интерпретацию в качестве убеждения, способности индивида формировать убеждения, задающие внутриличностную границу, определенной истинностью обладает положение, что интерпретативность удовлетворяет потребность человека в свободе и, одновременно, не дает ему ощущения социальной заброшенности. Следует, кроме того, отметить, что в повседневности как пространстве интерпретаций материализуются идентификационные наклонности индивида, воплощаются те социальные представления, которые можно назвать теоретическими коллективными переживаниями. Именно в этом можно видеть причину того, насколько российское общество по своим убеждениям образует так называемый колеблющийся «центр», избегая однозначных идеологических позиций. Слишком высока цена отстаивания приватного пространства, чтобы вступать в сделку с самим собой ради того, чтобы подключиться к неясным для обыденного сознания перспективам групповой или государственной идентичности.
Иными словами, размышляя о интерпретативности, можно сказать, что какие бы модели не представлялись для теоретического анализа (локальная, модернизационная, современная), важно - какие коллективные представления сформировались в обществе.
В.Г. Федотова отмечает, что «...сегодня у нас нет коллективных представлений о различии добра и зла; о том, что такое сострадание, справедливость, жалость, милость, доброта, хороший тон» [3, с. 140]. Для автора аномия мыслиться как следствие радикального отказа от прежде коллективно санкционированных ценностей в пору разрушения механизмов социального конструирования реальности при анархическом порядке 90-х гг.
В качестве альтернативного суждения можно сказать, что социальное конструирование не осуществляется автоматически, а все-таки связано с освоением новых понятийных форм. И дело, на наш взгляд, не столько в социальной анархии, сколько в том, что российская повсе- дневность задавала слишком стихийный темп перемен и не обнаруживала законосообразности, что приводило к дезориентации индивида в поиске новых понятий, и переопределения себя в социальном пространстве. Короче говоря, если адаптивные стратегии выживания или обогащения наблюдались как мейнстримовые, иные идентичности могли выглядеть в этом контексте избыточными, не дающими индивиду даже элементарных чувств самосохранения и безопасности.
Происходящие процессы повседневности свидетельствуют о том, что сам процесс актуализации наличного социального знания, по существу, является спонтанным творчеством. Идентичность может конструироваться как попытка смягчить конфликт между жизненной позицией и формами группового самоопределения. Мы видим то, что, избегая жестких групповых рамок, большинство в российском обществе не хотят связывать свою жизненную судьбу с макроструктурами, которые являются для них персонифицированными, приватизированными, преследующими партикулярные частные интересы.
Повседневность, конечно, открывает каналы взаимодействия (в Нью-Йорке существуют синглз-бары, которых там множество, чтобы завязать знакомства). Но это не относится к тому, что является конфигурацией убеждений и людей, занимающих разные жизненные позиции. Пространство идентификаций напоминает неощущаемый и незамечаемый, но очень важный для жизни отдельного человека, фон. Именно в пространстве индивид ознакомлен, действует по стандартам и стереотипам, открывая и актуализируя определенные каналы коммуникаций.
Абстрактная формула взаимопонимания становится реальностью повторяющихся социальных контактов и взаимодействий. Для того, чтобы рассмотреть другого, участник взаимодействия, прежде всего, актуализирует приемы узнавания. В таком самом элементарном жесте, как приветствие содержится намек на приглашение к диалогу. Если социальные жесты регулируются нормами культуры, так это можно отнести к заслуге повседневности, негласно запрещающей определенные действия или желание совершить определенные действия. Такими многообразными способами повседневность возводит барьеры и разрушает их, создавая поле действия и взаимодействия и, в целом, границы человеческой активности.
Идентификация служит указателем, с которым можно пробираться по запутанным социальным тропам. Гораздо реже идентичность напоминает нам о том, что люди должны мыслить категориями публичного пространства. Если возникает такая потребность, она связывается не с формулой «как мы живем» и с поиском «как мы действуем», и с тем, что есть вера в вознаграждение, возможность быть понятым другими.
Оказавшись в состоянии шока, индивид стремится использовать и оценить разные расходящиеся жизненные пути, но, оказавшись в идентификационных тенетах, обретает и различные горизонты. Уместность действия в пространстве повседневности определяется соответствием принятым стандартам. Этого вряд ли можно было бы избежать, учитывая постоянную динамику повседневности, а также, волею или неволею возникающую необходимость сравнивать поступки и находить общие знаменатели.
Идентичность помогает исцелению социальных болезней или дает, суммирует индивидуальные действия человека в общее дело. Единственное преимущество, которое может дать коллективность, - это часто ощущение того, что это делают все в одиночку, чтобы пережить следующий раунд испытаний, нужно находиться в кампании других, включаться в ситуацию сравнения, полагая, что и другим приходится делать и переживать то же самое.
Иными словами, как пишет З. Бауман, все эти переживания убеждают в том, что нужно «сражаться» в одиночку [4, с. 61]. В современном обществе, где ограничения возникают имплицитно, где сами жизненные обстоятельства создают конфигурацию одинаковых поступков и действий, может быть, не требуется влияния нормативной структуры. Человеческие намерения и желания постоянно и так наталкиваются на какое-нибудь внешнее препятствие. В самом пространстве повседневности интерпретативный дух властвует над логикой вещей: неустроенность быта воспринимается как следствие собственных деяний Субъективная реальность, создаваемая индивидом, всегда мыслиться проективно, связываясь с горизонтами социального действия.
Такой характер имеет и идеология индивидуализма, иллюстрируемая хрестоматийными примерами XIX в. Наряду с влиянием идентичности, которая отмечает конфликты или помогает их разрешению, в субъективных предпочтениях индивид обязательно идентифицирует себя в большей степени с одними позициями, которые считаются для него центральными по сравнению с периферийными. Сущность интерпретативности в том и состоит, что в этой среде из множества жизненных позиций выбрать мейнстримовую, которую можно принимать во внимание, пусть даже и ценой второстепенности, оттеснения на обочину жизни. По отношению к позициям других людей, это бы означало социальный мезальянс, выключение из предустановленной совокупности обстоятельств.
Интерпретативность связана с обязанностью задавать неудобные и ненужные вопросы и пытаться разгадать смысл социального самоопределения. Но на такую экзистенциальную установку готов не каждый. Ведь повседневность диктует необходимость адаптации, вживания. И, примирившись с обстоятельствами, которые вовсе не гарантируют избавление от страданий, в очередной раз оказывается, что такие социальные разрывы не заканчиваются никогда. Они могут возникать и как вследствие травматических социальных перемен, так и в том, что интерпретативные способности личности исчерпываются. Возникает состояние усталости и ненужности превращений.
Идентификация обязывает к пониманию и связана со структурой действия. Но, находясь в «объятиях» повседневности, индивид вынужден переходить от понимания к непониманию, то есть, руководствоваться логикой, хотя бы частичного неведения, чтобы отличать нормативные ситуации от воображаемых. Жизнь надо прожить с помощью приемов определенного сравнения, действия и по привычным образцам, и решением в нестандартных ситуациях. В пространстве повседневности позиции представляются безусловными, учитывающими только кардинальные обстоятельства. Выбор центральной позиции делает остальные незаметными или не требующими концентрации внимания на частных ситуациях. То, что в идентичности скрываются элементы подозрения к другим и императив объяснения, свидетельствует о ее совпадении с обыденным, непроблематичным пространством.
Личностный кризис возникает всегда, если утрачивается одно из важнейших приобретений идентичности: чувство дистанции. Человек, которому не терпится войти в новую социальную группу, может выглядеть как бесцеремонный. На основании этого, можно сделать вывод, что интерпретация является прелюдией к адаптации, к снижению риска и склонности индивида к универсальному конформизму. Так или иначе, пространство порождает противоречия между конфигурацией обстоятельств и субъективными предпочтениями, стремлением сохранить индивидуальные черты и быть узнаваемым, выходить на контакт с другими людьми, жертвуя, таким образом, частицей «я».
Ссылки:
-
1. Штомпка П. Социология. М., 2005.
-
2. Мюрберг И. Свобода в пространстве политического. Современные философские дискурсы. М., 2009.
-
3. Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005.
-
4. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
Список литературы Повседневность: пределы идентификационных интерпретаций
- Штомпка П. Социология. М., 2005.
- Мюрберг И. Свобода в пространстве политического. Современные философские дискурсы. М., 2009.
- Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005.
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.