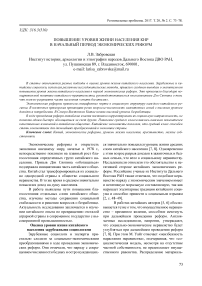Повышение уровня жизни населения КНР в начальный период экономических реформ
Автор: Забровская Л.В.
Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy
Рубрика: Экономика. Демография
Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечаются разные подходы в оценке уровня жизни китайского населения. Зарубежные и китайские социологи, используя различные исследовательские методы, пришли к сходным выводам о значительном повышении уровня жизни китайского населения в период экономических реформ. Это произошло благодаря поощрительной политике китайского правительства, руководствовавшегося высказыванием Дэн Сяопина о том, что можно разрешить части населения «стать богатыми». Экономические реформы привнесли специфичные черты в социальную структуру каждого китайского региона. В восточных приморских провинциях резко возросла численность зажиточных семей с высоким уровнем доходов и потребления. В Северо-Восточном Китае возник высокий уровень безработицы. в ходе проведения реформ китайские власти постоянно корректировали их социальную направленность, не позволяя одним быстро обогащаться за счет других. Появление среднего класса явилось важным показателем качественных изменений в китайском обществе. Китайские экономисты полагали, что средний класс способен стать локомотивом для дальнейших преобразований в экономике страны.
Китай, экономические реформы, уровень жизни населения, крестьянство, мелкие собственники
Короткий адрес: https://sciup.org/14329019
IDR: 14329019 | УДК: 316.3(510)
Текст научной статьи Повышение уровня жизни населения КНР в начальный период экономических реформ
Экономические реформы и открытость экономики внешнему миру, начатые в 1978 г., непосредственно повлияли на плавный рост благосостояния определенных групп китайского населения. Призыв Дэн Сяопина «обогащаться» поддержала инициативная часть китайского общества. Китай стал трансформироваться из социально однородной страны в общество социального неравенства. В то же время в среднем значительно повысился доход на душу населения.
В работе выявлены пути повышения благосостояния отдельных слоев китайского общества, изучены методы сохранения социальной стабильности и решения вопросов о безработице. Актуальность исследования заключается в изучении китайского опыта по превращению отсталой аграрной страны в современное государство с высокоразвитой промышленностью.
Оценка уровня жизни китайского населения зарубежными социологами
Зарубежные социологи и эксперты пристально следили за социально-экономическими преобразованиями в ходе проведения экономических реформ. Они отмечали, что наряду с сокращением численности бедных и остро нуждающих- уровень жизни населения, крестьянство, мелкие соб- ся значительно повысился уровень жизни средних слоев китайского населения [7, 8]. Одновременно с этим возрос разрыв доходов в зажиточных и бедных семьях, что вело к социальному неравенству. Исследователи относили это обстоятельство к негативной стороне китайских экономических реформ. Российские ученые из Института Дальнего Востока РАН также отмечали, что подобное неравенство наряду с экономическим значением имеет и негативную моральную составляющую, так как нарушает эгалитарные традиции китайского социума и способно привести к социальным взрывам [2, с. 48–49].
В работах китайских авторов [5, 6] обосновывается тезис о том, что имущественное неравенство – временное явление, способное исчезнуть при дальнейшем проведении реформ. Англоязычные исследователи, напротив, утверждают, что социально-экономическое неравенство будет углубляться при дальнейшем проведении реформ [7, 8]. При этом М. Уайт отмечает «неизбежность нарастания неравенства», подчеркивая, что «социалистическая модель, несмотря на отсутствие частной собственности, не предполагает имущественного равенства. Распределение материаль- ных благ бюрократическим путем также происходит неравномерно» [8, р. 41–42].
В течение десяти лет до вступления Китая в ВТО в 2001 г. эксперты ВТО проводили обследование китайских городов и деревень, в основном в Южном Китае, для выяснения уровня экономического развития домохозяйств, возможностей осуществления западных инвестиций и расширения торговли. При этом использовались методы, принятые в западной социологии, которые позволили экстраполировать полученные результаты на всю территорию Китая. В частности, в ходе проведения исследования применялись методы по вычислению коэффициента Энглера [1, с. 153–156]. Этот показатель рассматривается экономистами и социологами в качестве важной оценки уровня доходов и качества жизни населения. Коэффициент Энглера учитывается Советом по продовольствию и сельскому хозяйству ООН и служит общим критерием для определения благосостояния различных стран. Постепенное снижение коэффициента Энглера показывает уменьшение удельного веса расходов на питание в общих расходах семейного бюджета.
Показатель коэффициента Энглера выше 60% характеризует ту или иную страну как очень бедную, где населению недоступны в полной мере продукты питания. При коэффициенте Энглера в 50–60% обеспечивается доступность питания и предметов первой необходимости; при 40–50% – достигается уровень среднего достатка; при коэффициенте Энглера ниже 30–40% – достигается уровень зажиточности общества в целом.
Исходя из этого расчета в 1978 г. коэффициент Энглера составлял в китайских городах 57,5%, в деревнях – 67,7%, а в начале 1980-х годов коэффициент Энглера в китайских городах был на уровне 56,7%, в деревнях – 61,8%, что указывало на повсеместную бедность и соответствовало стадии «вэньбао» (накормить и обогреть) или удовлетворению самых ограниченных потребностей людей в питании и одежде. Это также свидетельствовало о том, что начало экономических реформ не смогло быстро поднять уровень жизни населения страны.
Только в 1990 г. было отмечено небольшое снижение коэффициента Энглера. Так, в городах он составил 54,2%, а в сельской местности – 58,6%. Через пятилетие в 1995 г. он соответственно составил 50,1 и 58,6%, что свидетельствовало о некотором приближении уровня жизни китайского населения к показателям общества «малого достатка» («сяокан»). Данные за 1999 г. имеют более низкие показатели – 40 и 50% [4, с. 156], что означало качественно новое положение в доходах и потреблении китайских семей, а, следовательно, свидетельствовало о значительном приближении к уровню жизни «сяокан».
Существенное снижение коэффициента Энглера в конце 1990-х гг. явилось показателем положительных перемен в структуре потребления китайских семей. В структуре потребления расходы на одежду и бытовые товары снижались синхронно с коэффициентом Энглера. При этом повышались расходы на приобретение жилья, здравоохранение, образование детей, культурный досуг, транспорт и книги. В этот период в жизни китайского населения, прежде всего это касалось крупных городов на востоке страны, произошел переход от уровня малого достатка, когда можно было обеспечить своей семье скромный набор потребностей в пище и одежде, к малому благосостоянию, когда все более важным становился доступ к культурным развлечениям и заботам о саморазвитии, а у немногих семей наметился переход к уровню зажиточности. Эти показатели позволили западным социологам сделать вывод о значительном прогрессе в социальных преобразованиях китайского общества, происшедших в ходе экономических реформ, и начале формирования китайского среднего класса [7, с. 83–84].
Китайская оценка показателей уровня жизни
В свою очередь китайские исследователи полагали, что важным показателем уровня жизни китайского населения является наличие определенного набора предметов длительного пользования, которые могла позволить себе каждая семья в разные периоды развития китайского общества. С 1950-х гг. китайцы, говоря об уровне своего достатка, называли в первую очередь «четыре вещи», обладание которыми свидетельствовало об уровне материального благополучия и общественного положения той или иной семьи.
В 1950–1970-е гг. «четырьмя вещами» являлись велосипед, швейная машина, ручные часы и транзисторный радиоприемник. Для их приобретения необходимо было затратить несколько сотен юаней. Этот набор важных предметов обихода был актуален в течение 30 лет, что говорит о том, что в тот период уровень жизни китайского народа оставался неизменным.
За 15 лет экономических реформ – с начала 1980-х до середины 1990-х – наметилось постепенное повышение уровня жизни китайского на- селения. В связи с этим стал меняться и список важных предметов обихода, которые дополняли первый ряд «четырех вещей». В этот период времени стало важным обладание холодильником, цветным телевизором с большим экраном, магнитофоном и стиральной машиной. Стоимость комплекта этих товаров превышала пару тысяч юаней. Иными словами, совокупный уровень доходов китайских семей позволял делать сбережения для покупки дорогостоящих товаров длительного пользования.
В конце 1990-х гг. произошла следующая смена приоритетных «четырех вещей». Среди новых необходимых предметов обихода появились кондиционер, персональный компьютер, мобильный телефон и автомобиль, на приобретение которых требовалось несколько десятков тысяч юаней. Как и в прошлые периоды, этот набор престижных товаров сначала появился в городских семьях, но не у всех сразу. Так, в 1999 г. автомобилями обладали только 0,3% городских семей, мотоциклы имели 16,5% семей [5, с. 38], мобильные телефоны были единичны. Таким образом, одним из важных показателей повышения благосостояния китайского населения в результате экономических реформ явилось непрерывное обновление ряда предметов длительного пользования и приближение их качества к мировому уровню.
Наряду с обладанием престижными вещами китайское население, особенно городское, стало более требовательным к качеству продуктов питания, одежде, жилищным условиям и т.д. Состоятельные жители крупных городов повысили внимание к белковой и экологически чистой и здоровой пище. Молоко и молочные продукты превратились в неотъемлемую часть рациона большинства городских семей. В конце 1990-х гг. в городах сократилось потребление пищи из зерновых и выросло потребление мяса. Появилась традиция посещения семьями ресторанов и баров.
Одежду стали выбирать в соответствии с модными тенденциями и индивидуальными особенностями. С 1998 г., когда китайское правительство официально увеличило продолжительность отпусков и число праздников, в Китае начался туристический бум. Китайские туристы старались посетить памятные места своей родины, что принесло дополнительные доходы в местные бюджеты. Представители более зажиточных слоев общества стали выезжать на отдых за границу.
Рост качества жизни также касался и улучшения жилищных условий китайского населения.
За 1996–1999 гг. жилая площадь, приходящаяся на одного городского жителя, выросла с 8,1 до 9,8 м2, оснащение газовыми плитами – с 68,4 до 84%, наличие водопровода – с 93 до 98%. В деревнях также выросла жилая площадь – с 21 до 24,4 м2 [1, с. 171].
В городах быстро развивалась телефонная связь. К 2000 г. число мобильных и стационарных телефонов составило 87 млн и 135 млн соответственно. Уровень проводной телефонизации в городах достиг 17% от всех домохозяйств.
В 1990-е гг. уровень жизни в деревнях также существенно повысился. Три четверти дворов имели современную мебель, велосипеды, а некоторые и мотоциклы. Однако обеспеченность электробытовой техникой была низкой из-за невысокой степени электрификации деревень и высоких расценок за пользование электричеством.
С конца 1990-х гг. в Китае стало постепенно распространяться такое нехарактерное явление для китайского населения, как потребление в кредит. Хотя имущественные запросы китайцев были достаточно велики, но они явились потребностями «отложенного спроса» и в то время не получили широкого распространения в виде рыночных действий. Большинство китайцев продолжали традиционно бояться остаться без сбережений, опасаясь ради удовлетворения сиюминутных потребительских нужд влезать в долги. Поэтому хотя кредиты были доступны широким слоям населения, первоначально они не получили должного распространения.
В 1999 г. китайское правительство ввело банковскую программу по широкому кругу кредитования населения, пытаясь подтолкнуть наиболее зажиточные слои китайского общества к использованию банковских кредитов для приобретения дорогостоящих вещей и квартир. Среди состоятельных жителей крупных городов на востоке страны стало популярным покупать в кредит квартиры и машины. Люди среднего достатка (3000 юаней в месяц и выше) начали прибегать к банковскому кредиту ради приобретения дорогостоящих электроприборов, использовать кредитные средства на расходы образования и здравоохранения.
Постепенно банковский кредит стал для китайцев «скрытым капиталом». Его использовали в случае нехватки денег на срочные нужды. Таким образом, потребление в кредит серьезно изменило традиционные представления китайского общества о товарно-денежных отношениях. Одновре- менно с этим такое нововведение способно было значительно расширить внутреннее потребление, что в конечном итоге стало новым побудительным мотивом для дальнейшего развития китайской экономики.
В 1995 г. были обнародованы правительственные «Тезисы плана по повышению здоровья народа», в которых нашли отражение общие цели в деле повышения уровня здоровья китайской нации. Специальное исследование этой проблемы в 1996 г. показало, что около трети китайского населения постоянно занималось спортом [1, с. 156]. В городах значительная часть работающих регулярно проходила медосмотры. По мере повышения жизненного уровня начали расти ранее отсутствовавшие в бюджетах китайских семей расходы на платное медобслуживание. Так, в 1995 г. городские семьи в среднем тратили в месяц 164 юаня, а в 1999 г. – 310 юаней на медицинское обслуживание. В деревнях этот показатель был в три раза ниже. Повышение качества медобслуживания привело к росту средней продолжительности жизни. Если в 1950-е гг. китайцы в среднем жили до 35 лет, то в 1999 г. этот показатель составил 71 год и Китай перешел в разряд «стран-долгожителей».
Столь значительное увеличение продолжительности жизни стало возможным благодаря непрерывному совершенствованию медицинского оборудования, росту уровня медицинского обслуживания и повышению профессионализма медперсонала. В 2000 г. в Китае насчитывалось 324 700 медицинских лечебных учреждений, где трудилось 4,49 млн медработников, тогда как в 1949 г. было всего лишь 3700 медучреждений и полмиллиона медработников.
Осуществляя проведение экономических реформ, китайское правительство и население уделяли большое внимание образованию. В конце 1990-х гг. большинство детей школьного возраста посещали школы. 9-летнее бесплатное образование стало обязательным и всеохватывающим. К 1999 г. коэффициент грамотности среди взрослых составил 88% [1, с. 157]. Все большую популярность стало приобретать получение образования за рубежом за собственные средства. К 1999 г. почти 100 тыс. китайских студентов обучались за границей за свой счет.
В целом по стране повысилось число лиц, получающих высшее образование. В 2000 г. на каждые 10 тыс. населения приходилось 70 студентов. В среднем расходы на образование каждой семьи составили 1014 юаней, что равнялось 7% от годового расхода на потребительские нужды.
Китайские эксперты подчеркивали, что расходы на образование стали превосходить расходы на оплату жилья [1, с. 130], что указывало на изменение приоритетов в расходовании бюджета домохозяйств. Таким образом в ходе экономических реформ динамика приобретения и потребления жизненно важных вещей и потребностей шла от материальных к материально-культурным ценностям, все более приближая запросы китайских зажиточных слоев к уровню и качеству потребления среднего класса западных стран.
Государственное регулирование оплаты труда
Основным источником расслоения китайского общества на бедных и богатых стало развитие многоукладности и появление несоциалистических укладов – частного и частнокапиталистического с иностранным или китайским капиталом. В оплате труда на этих предприятиях верх все больше брал произвол, особенно на частных. Китайские экономисты и социологи вынуждены были признать, что действовавшая в 1990-е гг. система оплаты труда не являлась ни распределением по труду, ни распределением по потребности, ни уравнительным распределением. Эта система не имела четких критериев и зависела от личного желания владельцев предприятий, позволяя им оставлять себе недоплаченную зарплату, что служило средством дополнительного обогащения.
В конце 1990-х гг. особенно высокий уровень заработной платы был на иностранных предприятиях столицы и в Южном Китае, где он достигал уровня 2000–6000 юаней в месяц, что сопоставимо с ежемесячными зарплатами китайских заместителей премьер-министра. В остальных районах Китая, особенно это касалось слаборазвитых западных и северо-восточных провинций, трудящиеся были вынуждены довольствоваться гораздо меньшими заработками. Для облегчения участи и защиты обездоленных слоев населения от произвола руководителей государственных предприятий и хозяев частных с 1994–1995 гг. власти начали принимать меры по введению минимального уровня заработной платы, а с 1996–1997 гг. – минимального прожиточного уровня. Так, например, в 2000 г. в пров. Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян минимальный уровень зарплаты в месяц составлял соответственно 150–200, 130–190, 90–100 юаней, минимальный прожиточный уровень – соответственно 100, 75 и 44 юаня [3, с. 220].
В наиболее выгодном положении в отношении оплаты труда оказались специалисты с высшим образованием, те, кому в 1990-е гг. было 25–35 лет и свыше 60 лет. Первая группа специ- алистов наиболее многочисленная. Они получили высшее образование в годы реформ и смогли совершенствовать его за границей. Понятно, что это были в основном представители семей партийно-административных чиновников. Вторая группа была довольно малочисленной. Это были специалисты, получившие образование в СССР и сумевшие выжить в годы «культурной революции». Полученное в СССР образование и знание русского языка помогло им в трудоустройстве в пожилом возрасте. Они, как правило, работали на предприятиях с участием иностранного капитала и их доходы состояли из повышенной зарплаты.
В 1980–1990-е гг. влачить жалкое существование вынуждены были бывшие «застрельщики культурной революции», которых в 1970-е гг. власти выселили в Северо-Восточный Китай и которые, так и не получив никакого образования, жили на пособия или случайные заработки.
Особое внимание власти уделяли материальному обеспечению ученых и вузовских преподавателей. По уровню оплаты труда работники НИИ, вузов и научно-технический персонал (годовая оплата труда за 1997 г. составляла 7960 юаней) находились на втором месте после энергетиков (9064 юаня), опережая служащих банков, сфер страхования и недвижимости [2, с. 283]. В последующее пятилетие уровень зарплаты научных и вузовских работников продолжал опережать аналогичный показатель оплаты труда служащих других государственных учреждений, что говорило о долгосрочном характере политики государства в этом вопросе. Такой подход свидетельствовал также о том, что китайскими властями была проведена капитализация не только производственных мощностей, но и высококвалифицированного труда, что позволило широким слоям китайских трудящихся поверить в правильность и необходимость проведения экономических реформ, а также осознать важность повышения своего образовательного уровня.
В результате большинство китайцев положительно оценивали свое социальное положение и уровень жизни. Они одобряли перемены, произошедшие в ходе экономических реформ. По данным социологической службы «Линдянь», в 1999 г. в ответ на вопрос, довольны ли вы сегодняшней жизнью, 52,8% опрошенных в городах и поселках высказались положительно. На вопрос «какая будет жизнь в будущем?» 56% ответили – «будем жить лучше» или «жизнь станет лучше». В ответ на предложение дать оценку экономической ситуации в 1980-х и 1990-х гг. положительный ответ дали соответственно 31 и 63%. На вопрос «в какую сторону – лучшую или худшую – изменилась ваша жизнь по сравнению с 1995 г.?» 76% опрошенных ответили положительно. На вопрос «какой по сравнению с сегодняшним днем станет жизнь спустя 5 лет?» 79% ответили – «изменится к лучшему» [1, с. 172]. Все это говорит о том, что большинство опрошенных были довольны своим уровнем жизни и оптимистично смотрели в будущее.
Состоятельные китайцы, уровень жизни которых соответствовал понятию «сяокан», составили в крупных городах-миллионниках значительную прослойку, которая, по оценкам китайских социологов, доходила до 50% населения этих городов. В деревнях такой уровень жизни имело меньшее число жителей – 30–40% [4, с. 182–187]. Понятно, что все, кто имел высокий уровень жизни, уже не нуждались в социальной помощи. Поэтому в 1990-е гг. китайские власти ограничили сферу социальной поддержки населения, сосредоточившись только на определенных категориях неимущих – потерявших работу, проживавших в депрессивных районах, пожилых и больных, которые не могли работать и не имели родственников.
В целом экономические реформы привнесли специфичные черты в социальную структуру каждого китайского региона. Так, в восточных приморских провинциях резко возросла численность зажиточных семей с высоким уровнем доходов и потребления. Население Северо-Восточного Китая, где возник высокий уровень безработицы в результате реструктуризации государственных предприятий, усугублявшийся значительным количеством бывших хунвейбинов, с трудом входивших в новые социально-экономические отношения, оказалось в невыгодном положении. Высвободившиеся трудовые ресурсы Северо-Востока Китая были вынуждены искать новые регионы для своего применения. В результате наметился стойкий, до 1 млн чел. ежегодно, поток трудовых мигрантов в юго-восточные регионы страны. Таким путем купировался высокий уровень безработицы в Северо-Восточном Китае.
Таким образом, одним из итогов политики реформ стало повышение доходов китайского населения, что произошло благодаря поощрительной политике китайского правительства, руководствовавшегося высказыванием Дэн Сяопина о том, что можно разрешить части населения «разбогатеть». Политика китайских властей, позволившая значительно улучшить материальное положение части населения, сыграла позитивную роль в процессе преодоления уравнительности в распределении социальной помощи и оплаты труда. Характерно, что в ходе проведения реформ китайские власти постоянно корректировали социальную их направленность, не позволяя одним быстро обогащаться за счет других. Это помогало мирно преодолевать социальную дифференциацию, избегать масштабных социальных протестов и сбалансировать отношения между разными социальными группами.
Возросший уровень жизни значительной части китайских граждан способствовал сглаживанию социальных противоречий и гармонизации китайского общества. Китайские власти пришли к выводу, что страна движется в правильном направлении и необходимо продолжить экономические реформы.
Список литературы Повышение уровня жизни населения КНР в начальный период экономических реформ
- Ван Мэнкуй и др. Экономика Китая: сб. ст.: пер. с кит. Пекин: Межконтинентальное изд-во Китая, 2005. 320 с
- Глобализация экономики Китая/под ред. В.В. Михеева. М.: Памятники исторической мысли, 2003. 392 с
- Курбатов В.П. Перестройка по-китайски//Общество и государство в Китае. ХХХIII научн. конф. М.: Восточн. лит-ра, 2003. С. 281-285
- Ляонин няньцзянь (2002) = Ежегодник провинции Ляонин за 2002 г. Шэньян, 2002. 670 с
- Ху Аньган. Шэхуэй юй фачжань = Общество и развитие. Чжэцзянь: Чжэцзянь жэньминь чубаньшэ, 2000. 270 с
- Чэн Лэй. Лунь и буфэнь жэнь хэли сяньфу, цзянь си данцянь шэхуэй фэньпэй бугун вэньти = О разумном обогащении части населения в первую очередь и несправедливом характере распределения в современном китайском обществе//Цзянхань луньтань. 1989. № 11. С. 36-38
- Kivinen M., Li Chunling. Free-Market State or the Welfare State?//At the Crossroads of Post-Communist Modernization. Russia and China in comparative Perspective. Ed. By Ch. Pursianinen. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 47-113
- Whyte M.K. Soaring income gaps: China in comparative perspective//Daedalus. Cambridge, 2014. Vol. 143, N 2. P. 39-52