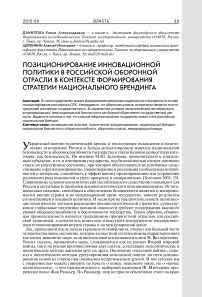Позиционирование инновационной политики в российской оборонной отрасли в контексте формирования стратегии национального брендинга
Автор: Данилова Елена Александровна, Щербинин Алексей Игнатьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ формирования механизма национального брендинга на основе позиционирования российского ОПК. Утверждается, что оборонная отрасль исторически является конституирующей российскую государственность. В современных условиях геополитической нестабильности актуализированалась тема национальной безопасности как базовой общественно-государственной ценности. Выдвинута гипотеза о том, что сильное обороноспособное государство может стать российским национальным брендом.
Инновационная политика, политическое позиционирование, национальный брендинг, национальная безопасность/обороноспособность, оборонная отрасль, международный имидж
Короткий адрес: https://sciup.org/170168070
IDR: 170168070
Текст научной статьи Позиционирование инновационной политики в российской оборонной отрасли в контексте формирования стратегии национального брендинга
У краинский военно-политический кризис и последующее охлаждение в политических отношениях России и Запада актуализировали вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства и такую базовую ценностную категорию, как безопасность. По мнению М.Ю. Зеленкова, применительно к социальным субъектам, в т.ч. в отношении государства, под безопасностью следует понимать «такое их качественное состояние, при котором обеспечивается их устойчивое существование и функционирование, удовлетворение и реализация необходимых потребностей и интересов, способность к эффективному предотвращению или устранению различного рода опасностей и угроз прогрессу и саморазвитию» [Зеленков 2002: 25]. Современные условия геополитической нестабильности существенно повышают для России и актуальность проблемы внешнеполитического позиционирования. От того, насколько сильным, способным к обеспечению безопасности является и воспринимается внутри страны и на международной арене государство, зависят результаты его внутренней и внешней политики. И несмотря на предпочтительность политикодипломатических методов реализации внешнеполитической стратегии, существующие глобальные источники военной опасности требуют поддержания высокого уровня обороноспособности и боеготовности государства. Таким образом, оборонная промышленность является традиционно приоритетной отраслью для российской экономики, а сегодня она может еще и выступать инструментом государственного позиционирования внутри страны и на международной арене.
Год, прошедший после начала украинского конфликта, открыл для большей части человечества новое состояние, которое в известной степени можно охарактеризовать как конец знакомого мира, если воспользоваться названием книги И. Валлерстайна. Точнее сказать, привычного мира, сложившегося как на руинах Второй мировой войны, так и на руинах противостояния двух систем, сочетавших неполитические и политические методы давления друг на друга. Окончание «холодной войны», переход к политическим методам урегулирования отношений пошли по пути доминирования одной из сторон при очевидном непротивлении другой. И вот сегодня мы с уверенностью можем говорить не просто о конце знакомого мира, но о «конце политического», о чем применительно к выборной кампании Ф. Миттерана пророчески писал Жак Рансьер. По Рансьеру, мир не просто объективно стоит на краю архаической бездны, а ему это объясняют. Объясняет тот, кто берет на себя древнейшую функцию auctor’s. Auctor, отмечает Рансьер, «это специалист по посланиям… тот, кто умеет различать смысл в шуме мира» [Рансьер 2006: 26-27]. Но, обратим внимание, что именно он, auctor, создает эту грань бездны, он поселяет чувство тревоги, «рядом с которой он ведет себя как гарант; гарант операции умиротворения, которой суждено возникнуть из самой спонтанности секуляризированного мира и которую он проводит, используя, в свою очередь, секулярное искусство, архаическое искусство политики» [Рансьер 2006: 29]. Публично заявив о санкциях против России, отметив, что от них могут пострадать все, президент США Б. Обама весной 2014 г. обозначил этот край бездны, а себя тем самым auctor’s, о которых писал Рансьер. Только, в отличие от выборов Миттерана, кампании против России был придан вселенский масштаб. Архаически «сконструированный» противник Обамы президент РФ В. Путин и в силу обстоятельств, и в силу особенностей нашей политической культуры, личных черт и т.п. не уклонился от вызова, и кампания, которая велась против Путина, «режима Путина», а в конечном счете – современной России, приняла характер самой ожесточенной пропаганды с обеих сторон. В этих условиях битва за имидж скорее приобрела характер разрушения имиджа противника как в целом, так и в деталях. Особенность пропаганды заключается в том, что она действительно с архаической прямотой навязывает населению «единственно верный» взгляд. Заметим сразу, что некое ослабление произошло в мае 2015 г., сразу после юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы. Не военная техника, новые виды вооружений и парадные расчеты, а наглядное воплощение «мягкой силы», по Дж. Наю, проявившееся в многомиллионных шествиях «Бессмертного полка», очевидный провал изоляции России в международных отношениях показывают путь, по которому Россия может выстраивать свой имидж, включая и его оборонный компонент.
Утрата международного статуса сверхдержавы вследствие распада СССР ставит Россию перед лицом вызова, связанного с формированием убедительного внешнеполитического образа на мировой арене. Существенное технологическое отставание от развитых держав и однонаправленная сырьевая структура российской экономики являлись и являются сдерживающими факторами в формировании имиджа страны. Важным обстоятельством, влияющим на восприятие России в мире, является то, что «постсоветская Россия является правопреемником и продолжателем (политическим, экономическим, культурным, геополитическим и иным) Советского Союза, что объективно ведет к сохранению в структуре имиджа некоторых элементов, которые были свойственны имиджу СССР» [Соколова-Сербская 2008: 3]. Образ России в восприятии западных стран существенно нега-тивизирован, причем постсоветский период не способствовал преодолению стереотипов времен «холодной войны». «Несмотря на переход Российской Федерации к демократическим и рыночным реформам, в странах западного мира Россия по-прежнему отождествлялась с образом “врага”… Это было внешним проявлением глубинных опасений Запада в отношении потенциала российского бизнеса, в отношении культурно-идеологических и военно-политических планов России на постсоветском пространстве, в СНГ, странах Ближнего и Дальнего Востока, Черноморском, Балтийском и Кавказском регионах» [Cooper 1999: 167]. По оценке В. Буянова, «даже на пике “холодной войны” образ страны был менее негативным, чем в пореформенные годы. Нас и раньше далеко не все понимали или любили, но, по крайней мере, уважали или боялись. После “капитализации” России – ни того, ни другого, ни третьего. Антисоветизм сменился русофобией. Отсюда вывод: США и Западная Европа боролись не столько с коммунистической идеологией и социалистическим строем, сколько с глобальным конкурентом» [Буянов 2007: 39]. Позиция России как активного противника однополярного мира вызывает сопротивление стран Запада и дополнительно усложняет формирование позитивного международного имиджа РФ.
Смещение социально-политических процессов в информационную область актуализирует проблему выработки государственной коммуникационной стратегии. «Создание облика страны ныне подчиняется законам PR, а репутация фор- мируется с помощью целенаправленной информационной политики, трактующей реальные или возможные действия на международной арене… облик государства и его международная репутация во многом базируются на элементах мифа и устойчивых стереотипах имиджа, доля которых в политике достаточно велика» [Мартынова 2004: 71], – пишет Л.Г. Мартынова. При этом, по мнению О. Судоргина, «если власть информационно неактивна, то другие, более активные в информационном пространстве силы могут через него бесконтактно управлять социальными процессами» [Судоргин 2008: 21]. В этих условиях стремление к формированию эффективной коммуникационной стратегии, направленной на создание и поддержание убедительного имиджа страны, является непреложным условием обретения сильных позиций на международной арене. «В мире, где непрерывно ведутся информационные войны, создание устойчивого и позитивного имиджа страны является уже не просто желательным условием, а осознанной необходимостью» [Тюкаркина 2011: 111], полагает О. Тюкаркина. Неоднозначное восприятие России за рубежом и усложняющаяся геополитическая обстановка на постсоветском пространстве указывают на необходимость концептуального осмысления основ формирования внешнеполитического образа страны. Особую актуальность приобретает проблема выработки научно-методологических и практических рекомендаций российским научным сообществом политологов в части конструирования внешнеполитического имиджа государства [Данилова 2014: 43].
Политический брендинг является одной из тактик формирования имиджевой политики государства и способствует его правильному позиционированию. Э. Райс и Дж. Траут указывают на превалирующее значение человеческого восприятия перед объективной реальностью: «Истина несущественна. Что имеет значение, так это присущее сознанию восприятие. Суть позиционирующего мышления в том и состоит, чтобы принять восприятие как реальность, а затем реструктурировать его, чтобы создать желанную позицию. Этот процесс мы назвали “изнаночным мышлением”» [Райс, Траут 2001: 7]. О смыслообразующей важности восприятия заявляют также М. Марк и К. Пирсон, выделившие, с опорой на К.-Г. Юнга, 12 ведущих архетипов – «жизненных историй», – с которыми резонирует наше восприятие информации [Марк, Пирсон 2005], для успешного позиционирования брендов. В контексте дискурса о формировании эффективного позиционирования государства тема субъективных возможностей его целенаправленного конструирования играет определяющую роль. Как отмечает Н.Г. Щербинина, политический брендинг есть «политическое конструирование марки, комплекса символических значений, в свою очередь управляющего однонаправленной осмысленной политической коммуникацией» [Щербинина 2009: 47]. В области странового брендинга важно отметить возможности получения государством материальных и нематериальных дивидендов вследствие реализации эффективной коммуникационной стратегии. В понимании Гравера «бренд страны подразумевает реализацию позитивных характеристик страны с целью извлечения прибыли» [Гравер 2012: 39]. Еще более важным следствием является рост нематериальной капитализации государства, его потенциальная способность влиять на глобальную политику. Так, Т.Л. Нагорняк считает, что «качественный бренд государства и его регионов – результат политики брендинга территорий – имеет целью обеспечение ее информационного присутствия в широких кругах, узнаваемость через отражение в массовом сознании ее локальных эксклюзивных отличий. Бренд способен обеспечивать территории возможностью стать силой воздействия, транслировать самостоятельные решения и увеличивать собственные материальные и нематериальные ресурсы» [Нагорняк 2013].
Базовой основой для формирования стратегии национального брендинга и позиционирования России в мире, направленной на улучшение имиджевой составляющей национальной безопасности и обороноспособности, может служить инновационная политика в сфере ОПК. По мнению П.И. Жуковой, «взаимодействие сферы безопасности и информационно-ценностной (имиджевой) сферы ставит вопрос о необходимости эффективных действий органов, обеспечивающих национальную безопасность в вопросах формирования положительного имиджа государства» [Жукова 2010а: 55]. Более того, сегодня положение дел таково, что «уже ни одна страна в мире, ни одна армия не могут успешно выполнять возложенные на них функции без создания благоприятных условий в информационном пространстве посредством целенаправленного формирования позитивного восприятия обществом всех сторон их жизнедеятельности» [Жукова 2010б: 61].
Важно задать дискурсивные рамки развития имиджевой стратегии посредством национального брендинга, положив в основу базовые политико-культурные категории, значимые для российского и мирового сообщества. Позиционирование России как обороноспособного государства, эффективно решающего задачу обеспечения национальной безопасности, может и должно стать национальным брендом. Предпосылки к этому уже наблюдаются. Достаточно привести пример возрождения традиции проведения военных парадов в честь годовщин Победы России как правопреемницы СССР в Великой Отечественной войне, позиционирующих ее роль в расстановке геополитических сил как в историческом ракурсе за счет определяющей роли в исходе войны, так и в перспективе – посредством демонстрации новейших вооружений и визуализации инновационных достижений отечественного ОПК.
Позиционирование российской оборонной отрасли как конституирующей российскую государственность является актуальной задачей для властных структур в целях формирования устойчивого внутри- и внешнеполитического имиджа государства. Принципиальное значение имеет развитие кооперации между государством, экспертным сообществом, СМИ и представителями опорных предприятий и вузов оборонной промышленности. Существенными препятствиями на пути формирования целостной коммуникационной стратегии позиционирования инновационной политики ОПК как базы для формирования имиджа России может выступать фактическое отсутствие государственного заказа экспертному политологическому сообществу и определенное сопротивление со стороны предприятий оборонной промышленности. В связи с этим задача политологов и специалистов смежных социо-гуманитарных дисциплин заключается в активации отраслевого пространства, обеспечении эффективных коммуникационных потоков, формировании потребности в инновациях и восприятии их как базовой ценности и безусловной цели.
Необходимо развивать практику коллекционирования примеров лучших практик инновационной деятельности, реализуемой предприятиями, вузами, НИИ и другими ключевыми акторами оборонной отрасли, с их последующим тиражированием при помощи релевантных коммуникационных каналов и целевых аудиторий. Активизировать СМИ можно посредством проведения пресс-конференций, брифингов, круглых столов с участием представителей ОПК. Важно освещать инновационные разработки оборонных предприятий и вузов на доступном широкой аудитории языке. Внешнеполитическая имиджевая коммуникация может быть осуществлена посредством поиска убедительных каналов передачи информации зарубежной аудитории.
Коммуникационная политика в области позиционирования инноваций в российской оборонной отрасли должна сегодня стать важным звеном формирования инновационной политики в сфере ОПК в целом. Формирование эффективной политики позиционирования российского ОПК как инновационного является средой для конструирования нового образа в восприятии российской государственности. Популяризация государственных инициатив и значимых проектов, имиджевая политика опорных вузов и предприятий отрасли, открытость и вовлекающая доступность субъектов инноваций должны лечь в основу структурных изменений в восприятии Российской Федерации ее гражданами и международным сообществом.
Список литературы Позиционирование инновационной политики в российской оборонной отрасли в контексте формирования стратегии национального брендинга
- Буянов В. 2007. Международный имидж России: прошлое и настоящее. -Вестник аналитики. № 4. С. 34-50
- Гравер А.А. 2012. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования. -Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. № 3(19). С. 29-45
- Данилова Е.А. 2014. Внешнеполитическое позиционирование государственной инновационной политики Российской Федерации. -Вестник Томского государственного университета. № 386. С. 43-46
- Жукова П. 2010а. Имидж России и ее безопасность: диалектика взаимосвязи. -Власть. № 2. С. 53-55
- Жукова П. 2010б. Имиджевая стратегия России в области безопасности: постановка проблемы (на примере Министерства обороны Российской Федерации). -Вестник Военного университета. № 1(21). С. 60-65
- Зеленков М.Ю. 2002. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке. М.: Юридический институт МИИТа. 209 с
- Марк М., Пирсон К. 2005. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер. 336 c
- Мартынова Л.Г. 2004. Международный имидж России. -Россия в современных международных отношениях: сборник статей аспирантов и преподавателей (под общ. ред. В.А. Михайлова). М.: Изд-во РАГС. С. 70-80
- Нагорняк Т.Л. 2013. Брендинг территории как вектор политики. -Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 4. Доступ: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/4/Nagornyak_Place-Branding/(проверено 26.04.2015)
- Райс Э., Траут Дж. 2001. Позиционирование: битва за узнаваемость. СПб.: Питер. 256 с
- Рансьер Ж. 2006. На краю политического. М.: Праксис. 240 с
- Соколова-Сербская Л.А. 2008. Формирование имиджа Российской Федерации на международной арене (1992-1999 гг.): автореф. дис. … д.и.н. М. 32 с
- Судоргин О. 2008. Информационная политика в информационном обществе: тавтология или смысловой детерминант? -Власть. № 9. С. 20-25
- Тюкаркина О. 2011. Роль национального брендинга в формировании внешнеполитического имиджа современной России. -Власть. № 12. С. 111-114
- Щербинина Н.Г. 2009. Конструирование виртуальной реальности и героический брендинг политического товара. -Политический маркетинг. № 2. С. 34-57
- Cooper L. 1999. Russia and the World: New State-of-Play on the International Stage. New York: Basingstoke. 222 p