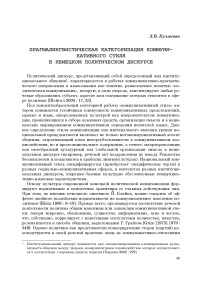Прагмалингвистическая категоризация коммуникативного стиля в немецком политическом дискурсе
Автор: Куликова Людмила Викторовна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемая статья отражает некоторые результаты теоретико-эмпирического исследования немецкого коммуникативного стиля в контексте институциональных дискурсов современной Германии.
Немецкий язык, немецкий коммуникативный стиль, институциональные дискурсы германии, политический дискурс в немецком языке
Короткий адрес: https://sciup.org/144152842
IDR: 144152842
Текст научной статьи Прагмалингвистическая категоризация коммуникативного стиля в немецком политическом дискурсе
Политический дискурс, представляющий собой определенный вид институционального общения1, характеризуется в работах коммуникативно-прагматического направления в языкознании как понятие, равнозначное понятию «политическая коммуникация», которую, в свою очередь, конституируют любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики [Шейгал 2000 : 17, 23].
Под концептообразующей категорией работы «коммуникативный стиль» автором понимается устойчивая совокупность коммуникативных представлений, правил и норм, опосредованных культурой как макроконтекстом коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, организации смысла и в национально маркированном коммуникативном поведении носителей языка. Данное определение стиля коммуникации как интегрального явления уровня национальной прецедентности включает не только метакоммуникативный аспект общения, затрагивающий план интерсубъективности в коммуникативном взаимодействии, но и пропозициональное содержание, а точнее, макропропозицию как своеобразный культурный код глобальной организации смысла в национальном дискурсе (например, речевой акт поздравления по поводу Рождества бессмысленен и неадекватен в арабских лингвокультурах). Национальный коммуникативный стиль специфицируется (приобретает специфические черты) в разных социально-коммуникативных сферах, в контекстах разных институциональных дискурсов, сохраняя базовые культурно обусловленные коммуникативно-языковые характеристики.
Основу культуры современной немецкой политической коммуникации формируют нормативные и ценностные ориентиры ее главных действующих лиц. При этом, по мнению немецкого лингвиста Й. Клайна, можно говорить об эффекте двойного воздействия нормативности на коммуникативное поведение политиков [Klein 1996 : 8–10]. Прежде всего, презюмируется соответствие речевой деятельности политика общим максимам или заповедям коммуникативной этики: говори искренно, обоснованно, сущностно, информативно, ясно и честно, что, собственно, коррелирует с известными постулатами количества, качества, релевантности и способа общения, выделенными Г. Грайсом [Grice [1975] 1979 : 249]. Однако политики как представители конкурирующих сторон (партий) руководствуются в своей речевой практике чаще не коммуникативно-этическими правилами, а принципами партийной целесообразности, представляющими собой суть прагматические категории.
Конфликт нормативных подходов с перевесом в пользу стратегий партийной солидарности (Parteiräson, Parteisolidarität) не может не отражаться на коммуникативном стиле и языке немецких политиков. При этом речь идет об основных суггестивных техниках как неотъемлемом компоненте акта политической (читай: персуазивной) коммуникации, что прослеживается на разных уровнях от слова до речевого действия (события), включая тематические преференции. На уровне семантики языковых знаков суггестивное воздействие реализуется в основном посредством метафорики и антонимии. По мнению исследователей, метафоры в политическом дискурсе полифункциональны [Drommel, Wolff 1978 : 71–86]. Их употребление упрощает сложное содержание сообщения, служит положительному или негативному оцениванию референциальных объектов, интерпретирует политические действия. В частности, это касается так называемой органометафорики, активирующей ассоциативный ряд, апелляцию к знакомым и доверительным вещам. Например, достаточно часто цитируемая в недалеком прошлом метафора « Politik der ruhigen Hand » стала своего рода девизом (символом) политической деятельности бывшего федерального канцлера ФРГ Г. Шредера. Так, в одной из его речей находим: « Ich bitte also einfach da-rum zu verstehen, dass die Bundesregierung den Kurs, den ich beschrieben und be-gründet habe, beibehalten wird, dass sie sich einer hektischen Debatte nicht an-schließen will und aus nationalen wie internationalen Erwägungen nicht darf sowie dass sie ganz entschieden eine Politik weiterverfolgen wird, die in der Finanz- und Wirtschaftspolitik auch deshalb eine Politik der ruhigen Hand gennant wird, weil sie auf Kalkurierbarkeit setzt» 1. Метафорическое выражение политика спо койной руки выполняет функцию положительно ориентированной интерпретации и оценки политических действий федерального правительства Шредера, коннотируя такие понятия, как постоянство, надежность и невозмутимость ( Ste-tigkeit, Verlässlichkeit, Gelassenheit ). В такой перспективе данная метафора вызывает у людей ассоциации, характеризующие роль ведущего политика как уверенного штурмана, управляющего кораблем вопреки всем бурям и ненастьям. В то же время на примере этой метафоры можно проследить процесс ее использования политическими противниками на основе переоценивания и наполнения новым содержанием (рефрейминг содержания). Вместо вышеназванных положительно коннотированных признаков «политика спокойной руки» коррелирует в подаче оппонентов с негативно окрашенными понятиями «бездеятельности и застоя» ( Untätigkeit, Stillstand – введение нового слота во фрейм метафоры): « Bei Schröder dagegen: Stillstand und Ankundigungspolitik … Drei Re-gierungserklärungen, vier SPD-Regionalkonferenzen, x Kommissionen, aber keine Ergebnisse … ». Подобное переосмысление метафорического значения побуждает к ответному коммуникативному ходу, что проявляется в интерпретациях собственной метафоры в многочисленных интервью Г. Шредера.
На уровне речевых действий в коммуникативном стиле немецких политиков доминируют стратегии легитимации собственной позиции и делегитимации позиции партийного оппонента, трансформируемые часто в самовосхваление, с одной стороны, и в полемику с элементами диффамации (клеветнических выпадов) в отношении противоположной стороны. Обе стратегии разворачиваются в коммуникативном модусе аргументации и объяснения. Аргументативный фрейм, в свою очередь, включает когнитивно-языковые операции индукции, аналогии, каузальности, тавтологии и ссылки на авторитет, используемые в целях манипуляций мнением населения как коллективного адресата политической коммуникации. Типично ярко выделенные стратегии встречаются в речах лидера баварской партии ХСС (христианско-социальный союз) Э. Штойбера: « Ganz Deutschland kann sehen: Es gibt eine bessere Politik als die von Rot-Grün in Berlin. Es gibt eine Politik, die Wort hält. Es gibt eine Politik, die nicht nur redet, sondern auch handelt, und zwar erfolgreich handelt. Bayrische Politik ist das Kon-trastprogramm zur rot-grünen Show-Politik in Berlin, das Kontrastprogramm zur rot-grünen Beliebigkeit, das Kontrastprogramm zu Zick-Zack-Kurs…Bayern ist das einzige Land, in Deutschland, das in den letzten zehn Jahren substanziell zusätzlic-he Arbeitsplätze geschaffen hat: Plus 105.000;… 5.300 zusätzliche Lehrer; 1,3 Milliarden Euro für die High-Tech-Offensive; Konsequenter Abbau der Neuverschul-dung » (аргументирующая легитимация политики своей партии с элементами самовосхваления). «… Wir haben es der Weitsicht und Durchsetzungskraft von Männern wie Alfons Goppel und Franz Josef Strauß zu verdanken» (апелляция к авторитету, использование прецедентных для данного социума имен). И далее: «…Tagelang wurde in den Medien nicht darüber diskutiert, dass der Mann (Kanz-ler) kein Konzept für die Finanzierung der Steuerreform hat, sondern darüber wo-hin die Familie Schröder in den Urlaub fährt. «Rimini oder Hannover» ist wirklich nicht die deutsche Schicksalsfrage. Deutschland braucht keinen Medienkanzler»1 (очевидная стратегия делегитимации действий политического оппонента с элементами диффамации).
Проявление коммуникативного стиля на тематическом уровне в политическом дискурсе сегодняшней Германии отмечено, как показывает исследование, рядом доминирующих тем (макропропозиций), затрагивающих внутренние и внешние проблемы страны. Достаточно ярко тематические предпочтения в дискурсивной деятельности современных немецких политиков, представляющих ключевые партии Германии, нашли отражение в правительственных предвыборных дебатах и выступлениях летом 2005 года. Наш анализ позволил выделить несколько основных тематических направлений политической коммуникации этого времени: Außenpolitik, Steuern, Arbeitsmarkt, Marktwirtschaft, Inne-re Sicherheit, Zuwanderung, Rente, Gesundheit, Gesellschaft und Familie, Bildung und Forschung, Umwelt und Energie, Bundeswehr.
Партийно-политические манипуляции на тематическом уровне осуществляются с помощью таких дискурсивных техник, как односторонний выбор тем и аргументов, сопровождающихся упрощением смысла, поляризацией, гипербо- лизацией и эмоционализацией обсуждаемого содержания. Коммуникативнопрагматические наблюдения за особенностями немецкого коммуникативного стиля в контексте политического дискурса позволяют сделать вывод о его ярко выраженной детерминированности культурной константой «свои – чужие», что с очевидностью проявляется на всех рассмотренных выше уровнях экспликации стиля. Сигналом противопоставления «свой круг» – «чужой круг» можно считать также обращение как коммуникативное средство адресации, имплицирующее партийную принадлежность говорящего и тех, к кому он апеллирует. Так, для коммуникативного стиля, конституирующего официальный дискурс СДПГ (SPD), характерно обращение «(liebe) Genossen und Genossinnen» либо в менее официальной обстановке «liebe Freunde und Freundinnen». В одном из текстов выступлений лидеров ХСС (CSU) маркером указания на «чужих» является в том числе саркастически-ироничное упоминание типичного для партийных оппонентов обращения: «…Wer die Empörung von Müntefering und Schröder im Ohr hat, der wird es nicht glauben: Einen Brief vom heutigen Vorsit-zenden der SPD an die lieben Genossinnen und Genossen…»1.
Традиционным для стиля коммуникации в рамках политического общения блока ХДС/ХСС (CDU/CSU) выступает обращение « Meine Damen und Herren », с помощью которого устанавливается и поддерживается речевой контакт с массовым адресатом в течение всей ситуации коммуникативного взаимодействия. Анализ многочисленных выступлений представителей этих партий позволяет отметить значительную частотность употребления обращения (например, в речах Э. Штойбера до 25 раз за выступление), выполняющего, по сути, метаком-муникативную функцию. Прежде всего, обращение реализует здесь фатичес-кий метакоммуникативный ход и, кроме того, играет роль дейктической единицы, привлекая внимание слушателей к введению нового тематического блока и указывая на его значимость.
В политическом общении партии «Зеленых» («Grüne») распространено обращение « Kollegen/Frau Kollegin » как маркер партийной корпоративности. На заседаниях бундестага обычно принято обращаться «(meine) sehr geehrte (n) Damen und Herren». Своеобразными надпартийными формами обращения государственных лиц к общественности являются нейтральные «liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen».
В плане оппозиции «свой» – «чужой», лежащей в основе легитимирующей и делегитимирующей коммуникативной деятельности современных политиков Германии, представляется возможным выделить еще одну особенность немецкого коммуникативного стиля, обозначенную в нашем исследовании как именные и/или партийные экспликатуры. Как показывает анализ основных коммуникативных пространств немецкого политического дискурса, большинство озвучиваемых в них текстов (за исключением сферы законодательной деятельности) традиционно содержит прямые критические апелляции к политикам и их партиям, в том числе к лицам, занимающим высшие посты в государстве. Многочисленные именные экспликатуры, часто сопровождаемые разнообразными средствами вербальной агрессии, можно считать в целом коммуникативной нормой политического институционального общения Германии сегодня. Напомним при этом, что суть вербальной агрессии в широком понимании заключается в нацеленности на ниспровержение оппонента, понижении его политического статуса [Шейгал 2000 : 131].
Не редки в немецком политическом дискурсе определенные манипуляции с именами известных политиков. В некотором смысле, как представляется, можно соотнести политически обусловленное употребление имен политиков с теорией лексической политической семантики [Hermanns 1992; Klein 1989].
В рамках вышеназванной теории исследователи выделяют в контексте политической коммуникации программные или знаковые слова [также сигнальные слова (Schlagwörter): Юдина, 2001] как своего рода конденсаторы партийных программ; лозунговые или «знаменные» слова (Fahnenwörter) как позитивно коннотированные лексемы, апеллирующие к ценностной системе координат своей группы, и стигматизмы (Stigmawörter), отрицательно коннотированные слова, соотносимые с идеологической парадигмой политических противников. Исходя из данного подхода, оскорбительные манипуляции, например, в отношении имени председателя ХДС А. Меркель: « Angela Merkel, asoziales Ferkel » (грубое пародирование имени за счет конструирования ассоциаций по созву-чию)1 или подобное « Merkelsteuer wird teuer »2, можно рассматривать как именные стигматизмы, используемые представителями партийной оппозиции. Тогда как в кругу сторонников имя лидера явно идентифицируется со знаковым лозунговым словом.
Наши наблюдения за актуализацией немецкого коммуникативного стиля в условиях естественного политического дискурса позволяют сделать вывод о некоторой разнице его проявлений в ситуациях непосредственного публичного выступления политика перед массовым адресатом и в опосредованных масс-медиа ситуациях телевизионных интервью, бесед, дебатов. Коммуникативный стиль выступления перед живой массовой аудиторией в целом гораздо в большей степени, чем стиль общения с ведущим телепрограммы, маркирован невербально, харизматичен, характеризуется большей силой речевого воздействия (суггестивностью) и показной манерой коммуникативного поведения. В этой связи можно говорить о разной риторической самопрезентации и самоподаче политического деятеля в разных контекстах дискурсивной деятельности.
В прагматическом плане контекст проявления коммуникативных стилей политиков обусловлен в том числе локально-темпоральными условиями взаимодействия. Для коммуникативной ситуации открытого публичного выступления характерна дистанция публичного общения в режиме оратор – публика. Это контактное общение, когда слушатели находятся в поле зрения говорящего, в отличие от дистантной массовой коммуникации (например, в ситуации телевизионного интервью), осуществляемой посредством СМИ.
Нижеследующий фрагмент из телевизионного интервью цикла первого немецкого канала «Репортаж из Берлина» демонстрирует большинство из выделенных признаков коммуникативного стиля, свойственного контексту реализации в режиме интервью, а также других признаков культурно обусловленного немецкого коммуникативного стиля, выявленных в результате нашего исследования.
В предлагаемом эпизоде главный редактор программы Т. Рот (R) и его заместитель Т. Бауман (B) интервьюируют бывшего федерального канцлера Г. Шредера (K) по поводу предстоящих выборов в немецкий Бундестаг и нового канцлера ФРГ:
(…)
B : 5,2 millionen arbeitslose haben wir erfreulicherweise nicht mehr – es sind äh 4,7 millionen – aber herr bundeskanzler – wenn man diesen satz von peter hartz hört – dann muss man doch feststellen – ihre bundesregierung hat äh viel versprochen – aber nicht geliefert.
K : 1. ich glaube nicht – dass man in so kurzer zeit den arbeitsmarkt in ordnung bringen kann – 2.16 jahre lang vor unserer zeit ist nichts geschehen – während andere länder – äh wie etwa die skandinavier – die notwendigen reformen in den 90er jahren durchgesetzt haben – und jetzt die erfolge ernten – 3. es braucht zeit – nehmen sie das bitte nicht als ausrede – sondern als hinweis darauf – dass das begonnene fortgeführt werden muss – denn – es beginnt erfolge zu zeitigen – 4. wir haben die niedrigste jugendarbeitslosigkeit in europa – das wird gelegentlich übersehen – 5. aber das ist ein erster erfolg der reformpolitik – 6. wir müssen uns kümmern um diejenigen – die äh älter sind – und wir haben es geschafft – die erwerbstätigkeit von älteren menschen – die reale erwerbsstätigkeit – nach oben zu bringen – 7. das reale renteneintrittsalter war früher bei 59 – ist jetzt deutlich über 60–8. das sind alles dinge – die mit den reformen zu tun haben – 9. aber wenn sie sich die wirtschaftsdaten anschauen – dann wird diese mischung aus reformen auf dem arbeitsmarkt – und wachstumserwartung – berechtige wachstumserwartung – auch zu einer reduzierung der arbeitslosenzahlen führen – 10. ich bin sehr vorsichtig geworden – auch äh aus erfahrung – wenn sie so wollen – was prognosen angeht – 11. sie können die äußeren einflüs-se – zum beispiel – selten kontrolieren – dass es einen ölpreis von 60 dollar pro barrel und dar-über gab – während wir am anfang bei – äh glaube ich – wenn ich es richtig im kopf habe – knapp über 20 waren – manchmal darunter – 12. das ist durch nationale politik nicht zu beein-flussen – 13. das hat natürlich auswirkungen auf die wirtschaft.
-
R: ja – aber gibt es das problem bei hartz nicht – gibt es nicht zwei probleme – einmal – sie ha-ben es vorher nicht gesagt – dass er kommt – und zum zweiten – ist es in wirklichkeit nicht ein programm – dass dann funktioniert auf dem arbeitsmarkt – wenn die konjunktur gut ist – die ist aber nicht gut.
-
S: ja – sie haben ja recht – herr roth – dann funktioniert es besser – aber sie können ja nicht da-rauf warten – sie haben völlig recht und auch die experten – die darauf hinweisen – (…) – aber zuwarten war nicht möglich – sonst wären uns die systeme bei der alterssicherung – bei der ge-sundheit zusammengebrochen1 .
Вопрос, собственно представляющий собой оценочную реплику журналиста, звучит прямолинейно обличительно: «...Ваше правительство много обещало, но ничего не добилось (не сделало)!», что свойственно эксплицитному стилю низкоконтекстной коммуникации. Коммуникативный фокус сконцентрирован на информации по поводу безработицы (приводятся цифры). Кроме того, вопрос имплицирует эгалитарные отношения коммуникативных партнеров, соответ- ствующие небольшой дистанции власти в немецкой культуре, что позволяет задавать прямые нелицеприятные вопросы одному из первых лиц в государстве.
Ответ канцлера отражает особенности рационального личностного коммуникативного стиля, ориентированного на говорящего и на реализацию конечной цели интеракции: предоставление фактических данных и аргументов для убеждения слушателей. Предлагаемая аргументация разворачивается линейно, информация структурируется по тематическим блокам на основе причинно-следственных и интенционно-инструментальных связей (реплики 2, 4–8, 11–13). Сигналами индивидуальной идентичности в ответе канцлера выступают средства авторизации (« Ich glaube…», « Ich bin sehr vorsichtig geworden,…», «… glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe… »), передающие личностное мнение, оценки и предложения. Отметим также наличие в высказывании метакоммуникативных выражений адресации: («…nehmen Sie das bitte nicht als Ausrede, sondern als Hinweis darauf,…», «…wenn Sie so wollen,…»).
Второй в этом фрагменте вопрос, как и второе высказывание Г. Шредера, актуализируют стратегию диссонанса (разногласия), типичную для немецкого коммуникативного стиля в пространстве институциональных дискурсов (die «ja-aber» Strategie). «Да, ... – но… – стратегия» реализуется посредством краткой позитивной оценки «да», выполняющей, кроме всего прочего, в качестве фати-ческого компонента высказывания контактоподдерживающую функцию, и союза «но» как дискурсивно-прагматического элемента, вводящего контраргумент: «Ja, aber gibt es das Problem bei Hartz nicht…«; «Ja, Sie haben ja Recht, Herr Roth. Dann funktioniert es besser. Aber Sie können ja nicht darauf warten».
С прагмалингвистической точки зрения стиль ответных реплик канцлера реализует информационно-персуазивную языковую функцию, интенционально направленную на модификацию общественного сознания, анализ и оправдание действий своей партии как одного из политических институтов. Номинируемые при этом политически релевантные события служат в первую очередь легитимации собственных позиций и приоритетов, позитивной самопрезентации правительства: erster Erfolg der Reformpolitik, die reale Erwerbstätigkeit, das reale Renteneintrittsalter, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, berechtige Wachstumser-wartungen, Reduzierung der Arbeitslosenzahlen. Делегитимация партийной оппозиции проявляется в интервью, как нами было отмечено выше, достаточно корректно по сравнению с публичным речевым поведением: « 16 Jahre lang vor un-serer Zeit ist nichts geschehen …». Коммуникативный ход заканчивается аргументом по аналогии, призывающим адресата самому судить о последствиях бездеятельной политики предыдущей исполнительной власти: «… während andere Länder, wie etwa die Skandinavier, die notwendigen Reformen in den 90-er Jahren durchgesetzt haben und jetzt die Erfolge ernten».
Таким образом, в контексте прагмалингвистической категоризации коммуникативного стиля яркими доминантами немецкого стиля коммуникации в сфере политического дискурса являются:
– акцентирование оппозиции «свой – чужой» (индикация «своих» на основе сугубо позитивных, «чужих» на основе сугубо негативных смыслов);
– коммуникативный фокус на легитимность действий своей партии и илле-гитимность деятельности партии политического противника;
– ярко выраженная метафоризация политических речей;
– использование обращений как сигнала партийной корпоративности;
– демонстрация вербальной агрессии в политической дискуссии;
– использование политических инвектив (именных «стигматизмов») в публичном дискурсе;
– антропонимическая персонификация носителей политических идей;
– широкое использование политических прецедентных текстов;
– ярко выраженная суггестивность публичного выступления;
– преобладание конфронтативной стратегии.