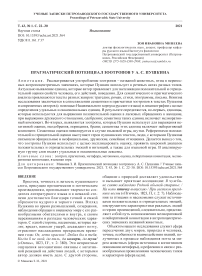Прагматический потенциал зоотропов у А. С. Пушкина
Автор: Минеева З.И.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 1 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается употребление зоотропов - названий животных, птиц в переносных антропоцентричных значениях, которые Пушкин использует в речевых актах разных типов. Актуально выявление единиц, которые автор привлекает для экспликации положительной и отрицательной оценки свойств человека, его действий, поведения. Для семантического и прагматического анализа привлекаются тексты разных жанров: трагедии, роман, стихи, эпиграммы, письма. Новизна исследования заключается в сопоставлении семантики и прагматики зоотропов в текстах Пушкина и современных авторов (с помощью Национального корпуса русского языка) и лексикографии с целью определения узуальных и окказиональных единиц. В результате определяются, во-первых, единицы, которые используются для выражения положительной оценки в ласковых обращениях к женщине, при выражении дружеского отношения, одобрения; семантика таких единиц включает мелиоративный компонент. Во-вторых, выявляются зоотропы, которые Пушкин использует для выражения негативной оценки, неодобрения, порицания, брани; семантика этих единиц включает пейоративный компонент. Семантика оценки нивелируется в случае языковой игры, шутки. Референтами положительной и отрицательной оценки выступают герои пушкинских текстов, люди, с которыми Пушкина связывали официальные и неофициальные, дружеские, семейные отношения. Делается вывод о том, что зоотропы Пушкин использует с целью эксплицировать оценку, проявить широкий диапазон положительных и отрицательных эмоций и интенций, а также для языковой игры. В анализируемую группу слов входят узуальные и окказиональные лексемы.
Зоотроп, прагматика, метафора, метонимия, оценка, пейоративная коннотация, мелиоративная коннотация, языковая игра
Короткий адрес: https://sciup.org/147227319
IDR: 147227319 | УДК: 811.161.1’37 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.564
Текст научной статьи Прагматический потенциал зоотропов у А. С. Пушкина
Простота, точность и легкость пушкинского слога, присущие прозаическим и поэтическим произведениям, пронизывают творчество создателя литературного языка и в немалой степени достигаются благодаря точной и емкой образности мудрого и зоркого гения. Взгляд Пушкина во время размышлений, созерцания, наблюдения обращен к внешнему миру с его разнообразными обитателями и внутрь, к своим переживаниям и разгадке человеческих характеров. С одной стороны, насекомые, которые жалят, вредят, наносят ущерб, досаждают поэту, отравляют наслаждение прекрасным временем года: Ох, лето красное! Любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи ! («Осень», 1823, П 1, т. 2: 380). Эти неприятные ощущения ассоциативно связаны с негативной реакцией на действия людей, с которыми автор должен иметь дело. С другой стороны,
общение с природой доставляет удовольствие и вызывает приятные ассоциации: В чужбине свято наблюдаю Родной обычай старины: / На волю птичку выпускаю / При светлом празднике весны («Птичка», 1823, П, т. 2: 7). Наблюдения за птицами и насекомыми служат источниками положительных и отрицательных эмоций, инструментом характеристики реальных людей и героев произведений, следовательно, представляют собой путь возникновения мелиоративной и пейоративной коннотации в антропоцентрических значениях названий животных.
Объектом нашего исследования служит сфера пересечения двух миров, природы и человека, точнее, особенности взаимодействия знаний, полученных в процессе наблюдения поэта за миром животных (сфера источника в когнитивном понимании метафоры), и рефлексии в связи с разнообразными проявлениями человеческих типов и характеров (сфера цели).
Данное исследование, целью которого является характеристика прагматических свойств зоотропов у Пушкина в аспекте узуальности – окказиональности, продолжает анализ антропоцентрических ЛСВ в материалах «Словаря языка А. С. Пушкина»2 и Национального корпуса русского языка (НКРЯ)3 [5]. Основные аспекты исследования – определение круга зоотропов, коннотативные компоненты которых обеспечивают соответствующую прагматику у Пушкина и в современном языке, а также зоотропов с окказиональными и архаичными компонентами, не позволяющими использовать данные единицы в аналогичной прагматической функции в современном языке. Другими словами, нас интересует и необычный (с точки зрения современного восприятия) способ выражения Пушкиным актуальной прагматики с помощью окказионального языкового средства, и случаи семантического сдвига, изменения значения слова, влияющего на реализацию его прагматики.
Изучение пушкинского языка предпринимается учеными в аспекте архаичности – неархаич-ности:
«С одной стороны, язык Пушкина понятен и не ощущается как архаичный… С другой стороны, пушкинский язык настолько отличается от современного узуса, что интуитивно ощущается как “не вполне свой”, даже если все его элементы не вызывают проблем понимания» [1: 76]
и включает случаи, когда определенный смысл выражается необычным для современного носителя языка способом: «Значение таких выражений в принципе понятно, но сегодня так бы не сказали» [1: 78].
Изучается также семантика слова и ее изменение с XIX века до настоящего времени, такой анализ позволяет преодолеть трудности в понимании интенций автора [6].
ЗООТРОПЫ В ТЕКСТАХ ПУШКИНА
Инвентарь лексем, включающих названия животных в переносном значении, у А. С. Пушкина достаточно объемен и разнообразен с точки зрения представленных в нем классов единиц и реализуемой с их помощью прагматики.
Человек и в настоящее время, и во времена Пушкина и подл, и высок, и мелочен, и великодушен, что находит отражение в исследуемых текстах.
Перенос: название животного → человек может быть метафорическим или метонимическим, а может представлять собой сплав их взаимо-переходов. Переносные антропоцентрические значения названий животных в русской картине мира разнообразны, функционально значимы и прагматически нагружены. Функционирование таких единиц в XIX веке активно изучается [2], [8]. Прагматика имеет дело с оценочными и околооценочными значениями, ассоциациями и коннотациями. Пушкин использует прагматический потенциал этих единиц, имплементируя вполне определенные интенции и находя в зоотропах универсальное средство идентификации и характеристики Homo sapience.
При прагматическом подходе к анализу языковых единиц акцентируется внимание прежде всего на коммуникативных целях того или иного речевого акта, в котором выражается одобрение или порицание определенных качеств референта. Можно также говорить о прагматической установке автора воздействовать на читателя таким образом, чтобы он разделил положительную или отрицательную оценку свойств характера, внешности, манеры поведения, особенности взаимодействия с автором. В одних случаях Пушкин концентрирует свое внимание на аномальных проявлениях человеческого характера, свойств, действий, не соответствующих ожиданиям автора и его представлениям о норме и обусловливающих негативную оценку. В других – коммуникативная цель автора состоит в выражении одобрения.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Экспликация симпатии, похвалы, восхищения осуществляется с помощью лексем, семантика которых включает мелиоративный коннотативный компонент.
Названия птиц традиционно используются в русском языке с целью выражения положительной оценки при комплиментарно-ласковом обращении к девушке, женщине. Пушкин использует зоотропы косатка, лебедушка, соловейко, пташка, птичка, голубка, голубушка, голубчик, сокол . Прагматика положительной оценки, как правило, не обусловлена проявлением конкретного качества, свойства референта, а связана с личностными качествами и положительными эмоциями поэта.
Косатка
У Пушкина вторичное значение лексемы базируется на исходном косатка в значении ‘ласточка’ (СП, т. 2):
Согласен, - говорит отец, - Ступай благополучно, Моя Наташа, под венец: Одной в светелке скучно. Не век девицей вековать, Не век косатке распевать, Пора гнездо устроить, Чтоб детушек покоить («Жених», 1825, П, т. 2: 92).
В современном языке имеются омонимы косатка ‘дельфин’ и косатка ‘рыба’ (БАС-34, т. 8:
510); НКРЯ содержит словоупотребления первого омонима, в том числе в сложениях дельфин-косатка (1993), кит-косатка (1964, 2002-2009), в сочетании с прилагательным плотоядный (2009) и хищник (1963). Единичное употребление формы множественного числа отмечается в спортивной сфере для обозначения спортсменов канадского клуба «Ванкувер Кэнакс», известного в России тем, что за него играл российский хоккеист П. Буре. Пушкинской косатке соответствует стилистически маркированный омофон касатка ‘деревенская ласточка’ и трад.-нар. ‘ласковое обращение к женщине, девушке, девочке’ (БТС5); в академическом словаре второй ЛСВ снабжен пометой «разговорное» (БАС-3, т. 7: 691). Анализ документов НКРЯ, в которых касатка используется в значении ‘дельфин’ (2013, 2014 годы и др.) и ‘спортсмен’ (2009, 2011 годы), ставит под сомнение наличие в современной разговорной речи слова касатка (в вокативной функции), мотивированного ЛСВ касатка ‘ласточка’.
Лебедушка
Модификационный дериват лебедушка у Пушкина представляет собой ласковое обращение к девушке, женщине (СП), эту метафору автор использует в поэтическом тексте: Что ж, красные девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебедушки , притихли? («Русалка», 1832, П, т. 4: 396), в общении с друзьями: Прости, прощай -с тобою ли твоя княгиня- лебедушка ? (Письмо П. А. Вяземскому, 13 июля 1825 г., П, т. 9: 167). В современном узусе зоотроп лебедушка отсутствует (НКРЯ); по данным лексикографии, сохраняется исходная лексема лебедь при обращении к девушке, женщине, в том числе в народно-поэтических текстах (БАС-3, т. 9: 78).
Соловейко
Модификационный дериват соловейко мужского рода от названия птицы соловей употребляется Пушкиным в прямом значении в стихотворении «Соловей», в переносном значении – по отношению к референту-женщине, обладающей приятным голосом: Другой Урусов, говорят, женится на Бороздиной - соловейке (Письмо Н. Н. Пушкиной 3 октября 1832, П, т. 10: 115). В современном языке исходное слово соловей используется как обозначение человека с хорошими вокальными данными, при этом наблюдаются коллокации с определяющими прилагательными, лексема соловейко, м. - Народ-но-поэт. Ласк. к ‘соловей’6 в число узуальных не входит.
Птичка и пташка
Ласковое обращение к любимой героине птичка (первоначально в рукописи) и пташка
(в окончательной редакции) автор вкладывает в уста няни: О пташка ранняя моя! («Евгений Онегин», 1831, П, т. 4: 71); референт – Татьяна Ларина. Узуальный характер первого зоотропа подтверждается данными словарей [8] и НКРЯ, слово птичка в вокативной функции используется с целью выразить положительную оценку референта со стороны говорящего; второй зоотроп входит в состав фразеологизма ранняя пташка.
Голубица, голубка, голубушка, голубчик
Пушкиным используются модификационные дериваты ж. р. ( голубица, голубка, голубушка ): голубица , Красавица-девица («Жених», 1825, П, т. 2: 94); Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! («Няне», 1826, П, т. 2: 152); Прощай, Мария Ивановна, моя голубушка ! («Капитанская дочка», 1836, П, т. 5: 382) – в качестве ласкового обращения и номинации; м. р. ( голубчик): Я с тобой, голубчик , управлюсь, - сказал грозно генерал («Дубровский», 1832, П, т. 5: 191) – при фамильярном и ироничном обращении к мужчине. Голубица и голубка в современном языке утратили статус актуальных узуальных средств, переместившись в разряд устарелых. Можно отметить развитие функционально-прагматических свойств у узуальных слов ( голубушка, голубчик ) данной группы, которые употребляются больше для выражения иронии, чем для выражения положительных эмоций.
Сокол
Употребляемое Пушкиным в аппозитивной функции обозначение мужчины ( Прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! - говорила добрая попадья («Капитанская дочка», 1836, П, т. 5: 382) включает мелиоративный компонент, выражает положительную оценку; данная прагматика сохраняется в современном языке [7], [8].
Таким образом, 5 из 10 названий птиц, привлекающихся Пушкиным для выражения ласкового, приязненного отношения к героям произведений и близким друзьям автора, сохраняют характер прагматики и входят в число узуальных единиц современного языка.
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Большая группа зоотропов используется для выражения негативной оценки референта, порицания его поведения, неприятия определенных качеств. Пушкин придавал особое значение этому пласту лексики и отдавал себе отчет в серьезности перлокутивного эффекта, наступающего в результате включения в текст такой единицы с мощным воздействующим потенциалом. Каждая из выявленных в пушкинских текстах лексем занимает определенное место на градуальной шкале в зависимости от эксплицируемой прагматики от иронии до брани.
Тигренок
Модификационный дериват от исходного тигр имеет в семантической структуре (‘молодой, сильный, хищный’) компонент ‘невзрос-лость’ и коннотацию негативной оценки. Слово вне контекста не содержит негативно-оценочных коннотаций и скорее включает мелиоративный компонент, обеспечивающий употребление с целью положительной оценки. Тем выразительнее в ткани одной из маленьких трагедий его употребление с целью показать противоестественность, ненормальность противостояния и вражды между скупым отцом и жаждущим богатства сыном. Образ молодого рыцаря, готового в «ужасный век» принять вызов старого отца и сразиться с ним, предстает резко негативным в восприятии герцога, речь которого обращена к враждующим родственникам: Герцог. Что видел я? что было предо мною? Сын принял вызов старого отца!.. Молчите: ты, безумец, И ты, тигренок ! полно («Скупой рыцарь», 1830, П, т. 4: 319). Использование зоотропа тигренок Пушкиным необычно, а прагматика модификационного деривата исключительно индивидуальна.
Щенок
Пушкинский тигренок прагматически тождествен современному узуальному щенок . Негативно-оценочная грубо-пренебрежительная номинация щенок известна Пушкину, он использует ее дважды: Мужик на амвоне. вязать Борисова щенка ! («Борис Годунов», 1825, П, т. 4: 296); Вы, щенки ! За мной ступайте! («Утопленник», 1828, П, т. 2: 221).
Насекомые – букашка – паук – жук – мурашка
А. С. Пушкин использует слово букашка в предикативной функции в ряду других соги-понимов при передаче диалога антагонистов - поэта и критика:
Моё собранье насекомых Открыто для моих знакомых... Вот Глинка - божия коровка, Вот Каченов-ский - злой паук , Вот и Свиньин - российский жук , Вот Олин - черная мурашка , Вот Раич - мелкая букашка («Собрание насекомых», 1829, П, т. 2: 283).
Букашка появляется у Пушкина именно при передаче диалогов редакторов, критиков и поэта: Поэту вздумалось описать любопытное собрание букашек. - Сам ты букашка, закричали бойкие журналы, и стихи твои (Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений, 1830, П, т. 6: 329). После публикации стихотво- рения Пушкин подвергся резкой критике из-за употребления названий насекомых (букашка, жук и др.), обладающих коннотацией резкого уничижения; однако он публикует в «Литературной газете» заметку «Собрание насекомых» (П, т. 6: 65-66), посвященную ранее опубликованному стихотворению, вновь печатает его, сопровождая насмешливо-ироничным комментарием, и обещает издать отдельной книжкой для продажи по 25 рублей, баснословно высокой цене, показывающей ценность и важность ее для поэта, то, что он не готов расстаться с этим текстом.
В современном языке негативная оценка и интенция уничижения при употреблении названий насекомых по отношению к человеку сохраняется: паук ‘злой’ , букашка и насекомые ‘ничтожные’, жук ‘хитрый’. Мурашка - индивидуально-авторская единица, синонимичная созвучному букашка .
Обезьяна
Зоотроп во времена Пушкина представляет собой полисемант. Во-первых, обезьяна используется автором в значении ‘щеголь, модник’ как слово, хорошо известное читателям-современникам. В романе обезьянами названы светские щеголи и волокиты, например, во фрагменте, который начинается строкой «Чем меньше женщину мы любим.»: .. Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян: Ловласов обветшала слава Со славой красных каблуков И величавых париков («Евгений Онегин», 1831, П, т. 4: 76). Автор напоминает, что в стародавние времена ловеласы в модных париках и красных каблуках имели успех, однако теперь он видит в них старых обезьян , и негативная оценка, прагматика осуждения усугубляются с помощью зависимого прилагательного, также приобретающего негативно-оценочную коннотацию: старый ‘плохой’. Аргументом в пользу того, что зоотроп у Пушкина употребляется именно в значении ‘щеголь’, служит контекст со словом щегольство: Но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною («Арап Петра Великого», 1837, П, т. 5: 27).
Во-вторых, под влиянием французского языка лексема обезьяна имела значение ‘француз’. В протоколе собрания лицеистов в октябре 1828 года Пушкин вслед за своими друзьями называет себя «французом (смесью обезьяны с тигром)», здесь прослеживается аллюзия к выражению Вольтера «tigre-stinge» (обезьяна-тигр, или смесь обезьяны с тигром) для характеристики французов: «Выражение “смесь обезьяны и тигра” (“tigre-stinge”) было пущено в ход Вольтером как характеристика нравственного облика француза» [3: 380]. Ю. М. Лотман пишет о том, что «две лицейские клички Пушкина по сути являются одной… и ее парафразом» [3: 381]. Употребление слова обезьяна в значении ‘француз’ встречаем в стихах Пушкина: О Вольтер! О муж единственный! Ты, которого во Франции Почитали богом неким, В Риме дьяволом, антихристом, Обезьяною в Саксонии! («Бова», 1814, П, т. 3: 382). Зоотроп обезьяна в значении ‘некрасивый человек’ в XIX веке известен, однако Пушкиным не употребляется.
Генерализация семантики зоотропа делает возможным его употребление для общей негативно-оценочной характеристики без уточнения конкретного качества, обусловившего эту оценку:
Тупые лица, тупая важность - и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур («Рославлев», 1831, П, т. 5: 139).
Сегодня человек, названный обезьяной, представляется прежде всего кривлякой, бездумно повторяющим за кем-либо, слепо копирующим, перенимающим чье-либо поведение, манеры, слова. Репрезентация данного значения представлена в знаменитом рассказе М. Зощенко «Обезьяний язык» и других текстах, а также отражена в лексикографических дефинициях: « обезьяна 2. Разг. О человеке, который подражает другим, передразнивает других, гримасничает, кривляется. 3. Разг. Об очень некрасивом человеке» [8]. Обезьяна с ЛСВ ‘щеголь’ современным языком утрачена, развитие семантики слова происходит по типу генерализации (‘подражание моде’ → ‘подражание’), прагматика негативной оценки остается неизменной.
Собака - пес
Со бака и пес используются Пушкиным как бранные слова (СП) в устах рыцаря, который бранит жида Соломона за то, что тот не дает ему денег в долг:
Жид. Ах, милостивый рыцарь, Клянусь вам: рад бы... право, не могу. Где денег взять? Альбер. Полно, полно. Ты требуешь заклада? Что за вздор!.. Иль рыцарского слова тебе, собака , мало? («Скупой рыцарь», 1830, П, т. 4: 305).
Прагматически употребление зоотропа собака обусловлено необходимостью для рыцаря обозначить собственное превосходство и низкое положение ростовщика: как смеет «проклятый жид» и «разбойник», он же «почтенный Соломон», не верить благородному рыцарю. Кроме того, рыцарь выражает таким образом свое возмущение тем, что Соломон предлагает ему воспользоваться услугами аптекаря, который может дать яд для богатого, но безмерно скупого отца Альбера:
Альбер. Как! отравить отца! и смел ты сыну... Иван! держи его. И смел ты мне!.. Да знаешь ли, жидовская душа, Собака, змей ! Что я тебя сейчас же На воротах повешу. Жид. Я... я шутил. Я деньги вам принес. Альбер. Вон, пес ! (П, т. 4: 308).
Лексема пес употребляется для выражения презрительно-пренебрежительного отношения, с подчеркиванием асимметрии статуса и низкого положения референта:
Больно спесив Кирилла Петрович! А небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес ! («Дубровский», 1833, П, т. 5: 171).
Единство и неделимость творчества Пушкина наблюдаем в использовании зооморфных образов, переходящих из одного произведения в другое. «Собака!» - презрительно бросает один благородный рыцарь ростовщику Соломону, другие рыцари - вассалам: Подлецы, собаки вот мы вас! («Сцены из рыцарских времен», 1835, П, т. 4; 425). Это же бранное слово повторяет Савельич по отношению к самозванцу Пугачеву: «Помилуй, батюшка Петр Андреич!» - сказал Савельич. - Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака , в первом кабаке» («Капитанская дочка», 1836, П, т. 5: 300). Категоричность негативной оценки в речи слуги оттеняется ласково-уважительным, почтительным батюшка в именовании молодого хозяина.
В современном языке употребление лексем собака и пес сопряжено с прагматикой брани и выражения презрения: «Собака 3. Разг. О злом, жестоком, грубом человеке / употр. как бранное слово. Ты стрелял, с.? Отойди с дороги, с. паршивая !» (БТС, с. 1224); «Пес 2. О человеке, вызывающем презрение, негодование своими поступками. Ах он п. такой; п. паршивый, поганый (бранно)» (БТС, с. 826).
Змея - змей
Корреляты существительных мужского и женского рода змей и змея семантически и прагматически тождественны, и варьирование их выбора Пушкиным объясняется версификационными целями. В вышеприведенном фрагменте из «Скупого рыцаря» используется змей как квазисиноним зоотропа собака , в другой маленькой трагедии - змея в речи Сальери как средство зримо представить человека, объятого завистью:
Сальери. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был Когда-нибудь завистником презренным, Змеей , людьми растоптанною, вживе Песок и пыль грызущею бессильно? («Моцарт и Сальери», 1830, П, т. 4: 324).
В современном языке сохраняются оба коррелята, причем, как видим, при этом возможно использование лексем в ряду с другими бранными зоотропами:
- Ах же ты гад, ах ты змей , ах ты барбос ты противный, подколодная гадюка, сволочь и сукин же ты рассын! - кричала женщина, которую ему и узнавать не надо было, потому что женщина являлась его законной супругой (НКРЯ: Попов Е. Вне культуры (2000)).
Список литературы Прагматический потенциал зоотропов у А. С. Пушкина
- Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Госиздат, 1959-1962. (П.)
- Словарь языка Пушкина: В 4 т. М.: Азбуковник, 2000. (СП)
- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.ruscorpora.ru (дата обращения 30.06.2019).
- Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К. С. Горбачевич. Т. 3. М.; СПб.: Наука, 2003. 665 с. Т. 7. М.; СПб.: Наука, 2007. 730 с. Т. 8. М.; СПб.: Наука, 2007. 841 с. (БАС-3)
- Новейший большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.; М.: Рипол-Норинт, 2008. 1536 с. (БТС)
- Словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. М.: Русский язык, 1984. С. 191.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. О. Н. Трубачева. Т. 3. М., 1971. С. 574-575.
- Добровольский Д. О. Лексическая семантика в диахронии: язык художественной прозы Пушкина и современное словоупотребление // Авторская лексикография и история слов: к 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 76-82.
- Кожевникова Н . А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв. Вып. 2: Звери, насекомые, рыбы, змеи / Отв. ред. Л. Л. Шестакова. М.: Языки славянских культур, 2010. 512 с.
- Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство, 1995. 847 с.
- Минеева З. И. Агентивы в языковой игре // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Н. Новгород, 2017. № 4. С. 169-175.
- Минеева З. И. Зоотропы в словаре А. С. Пушкина // Авторская лексикография и история слов: к 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 107-114.
- Пеньковский А. Б . Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М.: Индрик, 2003. 640 с.
- Санников В . З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 552 с.
- Фролова О. Е. Переносные значения названий животных в толковых словарях (антропоцентрический аспект) // Русский язык в научном освещении. 2005. № 2 (10). С. 137-158.