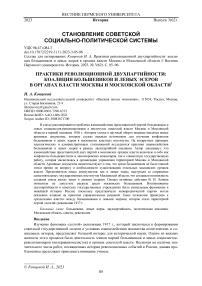Практики революционной двухпартийности: коалиция большевиков и левых эсеров в органах власти Москвы и Московской области
Автор: Концевой И.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Становление советской социально-политической системы
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема взаимодействия представителей партий большевиков и левых социалистов-революционеров в институтах советской власти Москвы и Московской области в первой половине 1918 г. Автором статьи в научный оборот впервые вводятся новые архивные документы, которые служат важным источником для изучения конфликтов большевиков и левых эсеров в московских властных институтах. На конкретных примерах идеологических и административных столкновений исследуются практики взаимодействия большевиков и левых эсеров в рамках двухпартийной коалиции. Автор доказывает, что взаимодействие представителей двух партий в московских органах власти включало в себя как конфликты большевистских и левоэсеровских комиссаров, так и совместную государственную работу, которая заключалась в организации управления территорией Москвы и Московской области. Архивные документы свидетельствуют о том, что среди большевиков не было единой точки зрения по вопросу о необходимости существования отдельных московских органов власти. Представители левых коммунистов, как и левые эсеры, выступали за сохранение самостоятельных государственных институтов Московской области, что создавало возможность создания союза между ними и левыми эсерами. Однако активные действия В. И. Ленина позволили не допустить раскола среди московских большевиков. Возникновение двухпартийности в советских государственных учреждениях было уникальным феноменом в новейшей истории России, поскольку представители неонароднической партии могли оказывать влияние на принятие управленческих решений. Такое положение приводило к «разделению власти» между большевиками и левыми эсерами, которое стало характерной чертой «долгой» революции 1917 г.
Большевики, левые эсеры, двухпартийность, политическая коалиция, московская область, советы, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/147246496
IDR: 147246496 | УДК: 94(47).084.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-85-96
Текст научной статьи Практики революционной двухпартийности: коалиция большевиков и левых эсеров в органах власти Москвы и Московской области
Изучение феномена «долгой» революции 1917 г., который заключался в формировании советской государственной модели в условиях взаимодействия множества политических и социальных акторов, представляет большой интерес для исторической науки. Одним из важных аспектов этого процесса была деятельность членов партий большевиков и левых социалистов-революционеров (интернационалистов) в органах советской власти. Несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных истории революционных событий в России, данная проблематика продолжает привлекать внимание ученых.
В рамках настоящего исследования рассматривается взаимодействие большевиков и левых эсеров в советских органах власти Москвы и Московской области – территориальном образовании, созданном в декабре 1917 г. для более эффективного управления губерниями Центральной России в условиях нараставшей опасности Гражданской войны2. В этой области были сформированы специальные институты власти и управления, которые включали в себя народные комиссариаты, исполкомы и комиссии по образцу высших органов Советской России.
Исследование данной проблематики начало осуществляться еще в первые постреволюционные десятилетия, когда в свет вышли статьи, посвященные истории борьбы большевиков с левыми эсерами. Работы 1920–1930-х гг. не содержат какого-либо основательного анализа взаимоотношений двух партий, поскольку авторы концентрировались на «разоблачении» левых эсеров как врагов советской власти [ Владимирова , 1927; Шестаков , 1927; Пиндрик , 1934]. После завершения эпохи сталинизма в СССР возникло целое историографическое направление по исследованию политической деятельности и идеологии партии эсеров и других небольшевистских социалистических движений [ Гусев , 1963; Спирин , 1968]. Параллельно стал изучаться процесс установления советской власти в Московском регионе. Были проанализированы революционные события в Москве и рассмотрено образование Московской области [ Алещенко , 1976; Грунт , 1976; Игнатьев , 1975; Серебрякова , 1977]. Также появились исследования, в которых большое внимание уделялось деятельности московской организации РКП(б) [ Варламов , Сламихин , 1964; Марченкова , 1977]. Советским авторам удалось изучить основные проблемы становления советской государственности, однако в силу идеологических причин они не уделили внимание практикам взаимодействия двух партий в органах власти, ограничившись рассмотрением борьбы большевиков со своими политическими оппонентами.
Постсоветский период в историографии характеризуется множеством различных подходов к изучению политической истории и значительным числом архивных документов, введенных в научный оборот. Большой интерес у исследователей вызывают деятельность партии левых эсеров и ее участие в работе институтов советского государства [ Попова , Люхудзаев , 1998; Фельштинский , 1992; Лавров , 2005; Леонтьев , 2007]. Региональный аспект взаимодействия большевиков и левых эсеров изучен менее подробно. Авторы преимущественно концентрируются на изучении борьбы партий в местных органах власти [ Юрьев , 2011].
В зарубежной историографии проблема взаимодействия большевиков и левых эсеров в революционных событиях 1917–1918 гг. детально исследовалась с середины XX в. Вышли в свет работы, посвященные истории ПЛСР(и)3 и процессу формирования однопартийной диктатуры в Советской России [ Radkey , 1963; Shapiro , 1977; Keep , 1976]. Впоследствии зарубежные авторы уделили большое внимание изучению идеологии и тактики левых эсеров по отношению к большевикам [ Häfner , 1991; Cinnella , 1997]. Некоторые ученые проанализировали взаимоотношения большевиков и левых эсеров в высших органах власти РСФСР. Так, Л. Доудс, исследуя совместную работу двух партий в Совете народных комиссаров, показала, что взаимодействие большевиков и левых эсеров в рамках двухпартийной коалиции включало в себя как сотрудничество, так и многочисленные конфликты [ Douds , 2017, 2018]. Большой вклад в изучение рассматриваемой проблематики сделал А. Рабинович, который впервые в историографии детально рассмотрел взаимодействие большевиков и левых эсеров в институтах Союза коммун Северной области, где также существовала двухпартийная коалиция [ Rabinowitch , 2007]. Однако, несмотря на значительное внимание авторов к вопросам формирования советского государства, деятельность вышеупомянутых партий в Москве и Московской области в современной историографии практически не упоминается.
Таким образом, взаимодействие большевиков и левых эсеров в органах власти Московского региона остается малоизученным аспектом раннесоветской истории. Для выявления характеристик совместной работы двух партий в органах власти Москвы и Московской области наиболее релевантным является применение исследовательской оптики «новой политической истории», главная особенность которой заключается в анализе повседневных политических практик [ Fitzpatrick , 2004]. Использование данного подхода позволяет сместить фокус исследования с судьбоносных исторических процессов в сторону региональных и локальных событий
[ Кром , 2004, с. 15]. Изучение практик взаимодействия большевиков и левых эсеров в органах власти Москвы и Московской области дает возможность установить принципы функционирования двухпартийной коалиции на региональном уровне и проанализировать феномен «разделения власти» между двумя партиями в условиях советской государственной модели.
Конструирование московских органов власти
Начало сотрудничества большевиков и левых эсеров в Москве было всецело связано с установлением советской власти на территории Центральной России. В момент взятия власти большевиками московское городское руководство осуществляли эсеры и меньшевики, которые отказались признать верховенство Совнаркома. Это вылилось в кровавые столкновения между созданным ими Комитетом общественной безопасности и Московским военно-революционным комитетом (ВРК), организованным большевистской партией. Небольшая группа московских левых эсеров поддержала действия Московского ВРК и присоединилась к РСДРП(б) (Советы в Октябре, 1928, с. 50).
После ликвидации сопротивления антибольшевистских сил левые эсеры заняли некоторые посты в Московском ВРК и Московском Совете рабочих и солдатских депутатов (Моссовете). Их лидеры выступили в поддержку сотрудничества с большевиками без участия умеренных социалистов. Так, 14 ноября 1917 г. левый эсер Ю. В. Саблин заявил, что левоэсеровская фракция Моссовета поддерживает установление советской власти, и отверг возможность соглашения с меньшевиками и эсерами. Похожее мнение было высказано и другими левыми эсерами – Д. А. Магеровским и Д. А. Черепановым (Известия Московского Совета… 1917, 15(28) ноября, с. 3). На пленарном заседании Моссовета были избраны его исполнительные органы. В состав исполкома Моссовета были включены большевики, левые социалисты-революционеры и группа представителей других социалистических партий4. Также был образован президиум Московского Совета, куда вошли только представители РСДРП(б) и левые эсеры, поскольку делегаты от других партий отказались в нем работать [ Грунт , 1976, с. 360]. Руководство московской партийной организации большевиков выступило за сотрудничество с левыми эсерами. 16 ноября 1917 г. IV Московская окружная конференция РСДРП(б) приняла резолюцию о создании органов советской власти в Москве на двухпартийной основе [ Марченкова , 1977, с. 82].
Формирование новых государственных органов в Москве продолжилось по мере упрочения власти Совнаркома в России. 27 ноября 1917 г. на пленуме Моссовета было принято решение о перестройке исполкома, который, согласно проекту большевиков, теперь должен был обсуждать все важные политические вопросы. На заседании исполкома Моссовета был избран ряд коллегий во главе с комиссарами, которые стали заниматься отдельными отраслями городского управления [ Алещенко , 1976, с. 33]. Левые эсеры также участвовали в этом процессе. Так, представитель их фракции в Московском Совете В. О. Зитта был назначен комиссаром земледелия (Известия Московского Совета… 1917, 10(23) декабря, с. 3). Большевики также предоставили в распоряжение левым эсерам комиссариат по иностранным делам и комиссариат акцизного ведомства. Представители левоэсеровской фракции были включены в коллегию московского комиссариата просвещения [ Марченкова , 1977, с. 112].
Органы советской власти в Московской области оформились после открывшегося 12 декабря 1917 г. областного съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Среди делегатов съезда с правом решающего голоса большевики составляли подавляющее большин-ство5 [ Марченкова , 1977, с. 242]. В исполнительный комитет советов Московской области на съезде были избраны преимущественно большевики и левые эсеры6 [Там же, с. 104]. Таким образом, областной съезд оформил двухпартийную конструкцию органов советской власти в Московской области.
Вопрос о структуре органов власти в Москве и Московской области не был окончательно решен на областном съезде советов. Областные властные институты оставались независимыми от Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 января 1918 г. было принято решение об образовании единого руководящего органа для Москвы и Московской области в лице объединенного президиума Московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута- тов. Он становился законодательным и исполнительным органом в рамках Московской области [Алещенко, 1976, с. 34].
Создание объединенного президиума произошло в период роспуска Учредительного собрания, что не могло не сказаться на взаимодействии большевиков и левых эсеров. После одобрения левоэсеровскими лидерами роспуска Собрания и вплоть до ратификации Брестского мира в марте 1918 г. между большевиками и левыми эсерами не осталось поводов для разногласий. По наблюдению Л. Д. Троцкого, в начале 1918 г. большевики и левые эсеры переживали «медовые недели коалиции» и даже поднимали вопрос об объединении двух партий [ Фель-штинский , 1992, с. 223].
18 января 1918 г. фракция большевиков в президиуме Моссовета предложила левоэсеровской партии наметить кандидатов в этот орган (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 62. Л. 60). Так московские большевики подали левым эсерам сигнал о готовности включить их в состав областных учреждений. 30 января 1918 г. на заседании фракции ПЛСР(и) в Моссовете было решено выбрать нескольких кандидатов в члены объединенного президиума (РГАСПИ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 18. Л. 4). В тот же день на пленуме Моссовета левые эсеры А. А. Биценко и Саблин стали полноправными членами президиума, а еще пятеро левых эсеров были назначены их заместителями (Известия Советов…, 1918, 14 февраля, с. 3).
Большевики и левые эсеры в областном правительстве
Увеличение функций исполкома советов Москвы и Московской области и усложнение его структуры привели к появлению идеи об образовании областного Совета народных комиссаров. Организация такого органа была оправданной ввиду того, что при исполкоме Моссовета существовали отдельные комиссариаты и их объединение в рамках единого правительства способствовало координации управления советскими учреждениями. Вопрос о создании московского Совнаркома стоял на повестке дня заседания III съезда советов Московской области. 11 марта 1918 г. на съезде с докладом выступил большевик А. П. Розенгольц, который высказался за организацию областного правительства, заявив, что «необходимо создать такой орган власти, который бы объединил все отрасли управления в одно целое» (ЦГАМО. Ф. 683. Оп. 1. Д. 50. Л. 7). Выступление большевика было поддержано левыми эсерами. Совместными усилиями двух партий была принята резолюция о создании Московского областного Совета народных комиссаров (МОСНК) во главе с председателем и двумя заместителями (Там же. Л. 26). В это правительство от партии левых эсеров вошли А. А. Биценко (товарищ председателя), В. Е. Трутовский (комиссар местного самоуправления), А. А. Шрейдер (комиссар юстиции), Я. В. Браун (комиссар транспорта)7 и В. О. Зитта (комиссар земледелия) (Известия Советов…, 1918, 20 марта, с. 3).
Причиной организации областного Совнаркома большевики назвали усложнение функций Моссовета. На одном из его заседаний М. Н. Покровский заявил, что образование МОСНК было связано с необходимостью, «поскольку административные функции советской власти в области чрезвычайно умножились, а президиум Московского Совета оказался перегружен техническо-административной работой» (Голос трудового крестьянства, 1918, 3 апреля, с. 2).
Процесс формирования областного правительства сопровождался одобрением политики московских большевиков со стороны левых эсеров. Так, на пленуме Моссовета левый эсер Черепанов приветствовал создание московского Совнаркома на двухпартийной основе, заявив, что «мы железной цепью связаны с большевиками своей любовью к Советской власти, и когда дело дойдет до ее защиты, то мы будем бороться вместе с ними за нее, в одних рядах с ними» (Известия Советов…, 1918, 21 марта, с. 3). Организация МОСНК стала возможной из-за преобладания среди московских большевиков группы левых коммунистов, которые, как и левые эсеры, выступали против централизации управления государством. Вероятно, именно поэтому В. И. Ленин после образования московского правительства назвал его существование «нелепостью» и потребовал поскорее его ликвидировать [Ленин и московские большевики, 1977, с. 289].
Первоначально В. И. Ленин и его соратники попытались наладить контакт с руководством МОСНК для осуществления эффективного управления советскими учреждениями. Так,
25 марта 1918 г. в Совнаркоме рассматривался вопрос о взаимоотношениях между центральным правительством и МОСНК. Было решено создать комиссию для разбора всех конфликтов и разграничения функций двух советских органов (ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 1. Л. 291).
Однако впоследствии взаимоотношения высших органов власти с московскими становились все более напряженными. Глубинные причины конфликта между руководством СНК и МОСНК заключались в различном видении организации местного самоуправления. Если В. И. Ленин являлся сторонником централизации государственной власти, то часть большевиков, составлявших группу левых коммунистов, выступала за создание самостоятельных областных правительств, имевших собственные комиссариаты и иные государственные институты. В состав МОСНК входили видные представители этого течения: М. Н. Покровский, В. М. Смирнов, Г. И. Оппоков (А. Ломов), Н. И. Муралов и В. Н. Яковлева (Известия Советов…, 1918, 20 марта, с. 3).
Областные органы власти имели широкие полномочия в рамках управления определенной территорией, что создавало возможность для трений между высшими и региональными органами власти. Эти трения выражались в том, что весной 1918 г. МОСНК часто издавал постановления, которые шли вразрез с линией центрального правительства [ Алещенко , 1976, с. 86]. Подобная политика московского правительства проводилась вследствие сильного влияния левых коммунистов на работу областного Совнаркома, что создавало угрозу для централизации управления.
В связи с опасностью потерять контроль над политикой московских властей сторонниками Ленина были предприняты попытки сократить полномочия МОСНК. 12 апреля 1918 г. президиумом Моссовета было принято постановление, согласно которому все решения областного правительства относительно города Москвы должны были направляться на утверждение в исполком Моссовета [Там же, с. 87]. Это постановление ограничило полномочия МОСНК по отношению к городу Москве, но не распространялось на решения областного Совнаркома, касавшиеся Московской области.
В МОСНК некоторые учреждения развернули активную деятельность по организации управления областью. Левыми эсерами, ставшими у руководства комиссариатов земледелия, местного самоуправления и юстиции, предпринимались шаги по упорядочиванию работы этих органов и принятию решений по разным вопросам их деятельности. Так, 6 апреля была определена структура комиссариата земледелия под руководством В. Ф. Зитты, в который вошли представители левых эсеров, занявшие ключевые посты (Известия Советов…, 1918, 6 апреля, с. 1). В. Е. Трутовский приложил усилия по организации комиссариата местного самоуправления. Им был сформирован аппарат этого учреждения и принято постановление об организации общественных работ для искоренения безработицы в Москве (Известия Советов…, 1918, 12 апреля, с. 1).
Практики взаимодействия большевиков и левых эсеров в комиссариатах МОСНК во многом повторяли взаимоотношения представителей двух партий в период существования правительственной коалиции в Совнаркоме, где между его руководством и некоторыми левыми эсерами-наркомами часто вспыхивали всевозможные конфликты, которые тем не менее не приводили к разрыву коалиции [ Douds , 2017, p. 42, 45]. В комиссариатах земледелия и местного самоуправления Московской области, которые состояли практически полностью из левых эсеров, не наблюдалось серьезных трений между двумя партиями, однако в комиссариате юстиции они происходили довольно часто. Вызвано это было преобладанием большевиков в коллегии комиссариата, которую возглавлял левый эсер А. А. Шрейдер на правах председателя. 24 марта 1918 г. он был назначен главой коллегии, состоявшей из большевиков Д. И. Курского, П. А. Чегодаева, С. В. Богрова, Н. В. Белкина и Н. А. Черлюнчакевича (ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 341. Л. 5).
Столкновения большевиков и левых эсеров в коллегии комиссариата юстиции, носившие идеологический характер, проявились с первых дней организации областного правительства. 27 марта на объединенном заседании коллегии Наркомата юстиции и коллегии комиссариата юстиции МОСНК вопрос о назначении А. А. Шрейдера областным комиссаром юстиции вызвал спор. Он разгорелся вследствие заявления о выходе из коллегии, сделанного большевиком
Богровым, который настаивал на том, что уход левых эсеров из СНК должен означать их неучастие в работе коллегий областных комиссариатов (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 9. Д. 25. Л. 2).
-
А. А. Шрейдер, ссылаясь на распоряжения ЦК левоэсеровской партии, доказывал, что выход левых эсеров из Совнаркома «ни в коем случае не должен означать оставление ими технических постов», какими, по его мнению, и являлись должности областных комиссаров (Там же). Члены коллегии комиссариата юстиции Чегодаев и Курский присоединились к точке зрения Бо-грова, назвав вхождение левых эсеров в состав областных комиссариатов «неправильным и непоследовательным политическим шагом». Однако, подчинившись партийной дисциплине, они не стали подавать заявления о выходе из коллегии (Там же. Л. 2 об.). Шрейдер остался руководителем комиссариата, однако трения между ним и большевиками продолжились.
24 апреля 1918 г. МОСНК назначил члена РКП(б) П. А. Чегодаева заместителем комиссара юстиции (ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 341. Л. 102). Это назначение сыграло свою роль в усилении противоречий внутри коллегии, которые стали все чаще проявляться. По-видимому, Че-годаев являлся одним из самых жестких критиков комиссара юстиции и часто вступал в столкновения со Шрейдером. 26 апреля 1918 г. на заседании МОСНК рассматривалась жалоба на некорректное поведение Чегодаева в коллегии комиссариата юстиции (Там же. Л. 108). Действия большевика создавали почву для многочисленных административных конфликтов, связанных с порядком работы коллегии комиссариата юстиции. Так, 4 мая 1918 г. в комиссариате юстиции рассматривался вопрос о кворуме заседаний коллегии. Чегодаев начал дискуссию, в ходе которой отметил, что заседания из 6 сотрудников посещают только два человека – он и Шрейдер. В связи с этим большевики выступили за сокращение числа членов коллегии, «необходимого для правомочности заседаний». Был установлен кворум заседаний пленума в три человека (ЦГАМО. Ф. 5060. Оп. 1. Д. 3. Л. 5). Это решение не вызвало никаких споров, однако в связи с затронутой проблемой Чегодаев упомянул об отмене Шрейдером заседания 27 апреля на том основании, что комиссар не мог его посетить ввиду своего отъезда (Там же. Л. 5 об.). Данный факт большевик использовал для «наступления» на комиссара юстиции, обвинив его в нарушении решения коллегии от 23 марта, которое устанавливало дни и часы заседаний. Считая такого рода порядок «недемократичным и ненормальным», Чегодаев попросил коллегию выразить свое отношение к нему соответствующим постановлением (Там же).
Необходимо отметить, что прецеденты, когда заместитель народного комиссара проводил заседания коллегии, не являлись редкостью в практике работы правительственных учреждений, однако в данном случае Шрейдер не позволил коллегии собраться без его участия. Этот факт можно объяснить стремлением левого эсера контролировать принятие решений сотрудниками-большевиками и не допустить утверждения каких бы то ни было постановлений, противоречивших политическим взглядам комиссара. Чегодаеву не удалось настоять на своей точке зрения, поскольку Шрейдер не позволил ему поставить на голосование вопрос о том, имеет ли комиссар право своим распоряжением отменять решение коллегии, отметив, что для него ответ на данный вопрос «сам собой очевиден и ясен» (Там же. Л. 6). Административный конфликт по вопросу о правилах работы коллегии не сопровождался значительной конфронтацией большевиков и левых эсеров. Такого рода столкновения становились повседневной практикой в деятельности представителей двух партий в комиссариате.
По отношению к комиссариатам, в которых левые эсеры были в большинстве, большевики применили иную тактику противодействия политике их руководства. Наркомат земледелия, перешедший в марте 1918 г. под контроль РКП(б), стал ограничивать активность областного комиссариата, оставшегося под управлением левых эсеров. 5 апреля 1918 г. на заседании коллегии комиссариата земледелия Московской области левые эсеры сигнализировали о противодействии их работе со стороны Наркомата земледелия. По инициативе руководителей комиссариата земледелия Московской области была принята резолюция с критикой политики Наркомзема. Отношение руководства Наркомзема к московскому комиссариату было охарактеризовано как «совершенно ненормальное, нарушающее принцип федеральности и вносящее беспорядок и разруху в деятельность областного комиссариата земледелия» (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 188. Л. 12).
-
6 апреля в коллегии московского комиссариата земледелия левый эсер В. О. Зитта прояснил взаимоотношения между НКЗ и областным органом управления. Он заявил, что Наркомзем запретил выдавать кредиты областному комиссариату, и упомянул о постоянно происходящих между учреждениями трениях (Там же. Л. 13). Коллегия постановила просить Крестьянскую секцию ВЦИК устроить совещание с представителями обоих комиссариатов земледелия и довести до сведения МОСНК, что областной комиссариат «лишен возможности работать» (Там же. Л. 15). Таким образом, используя структуры центрального правительства, большевикам удалось «связать руки» левым эсерам в московском комиссариате земледелия и сократить возможность их влияния на аграрную политику СНК. Нарастание разногласий между партиями грозило перерасти в конфронтацию, которая разрушила бы двухпартийную коалицию.
Взаимодействие партий и упразднение московского Совнаркома
Напряженные взаимоотношения большевиков и левых эсеров в комиссариатах и стремление последних проводить независимую аграрную политику в Московской области подталкивали большевистских руководителей к необходимости роспуска МОСНК. В. И. Ленин с недоверием относился к идее создания областных правительств с широкими полномочиями, поэтому, по-видимому, смог убедить большинство членов РКП(б) в необходимости ликвидации властных институтов Московской области. 14 мая в МОСНК состоялось голосование по данному вопросу с участием всех представителей областного правительства, включая и левых эсеров. Незначительным большинством голосов (7 против 6) было принято решение об уничтожении областного Совнаркома (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 68. Л. 54).
«Ленинцам» предстояло преодолеть оппозицию со стороны левых эсеров и левых коммунистов в исполкоме советов Московской области. 20 мая был созван пленум областного исполкома, на котором большевики поставили вопрос об упразднении московского областного правительства, что вызвало дискуссию в РКП(б). Левые коммунисты выступили против уничтожения МОСНК. В поддержку точки зрения Ленина проголосовали восемь членов фракции большевиков, а шестеро, среди которых были видные члены партии Розенгольц и В. Н. Максимовский, высказались «против» (Там же. Д. 19. Л. 5). Чтобы левые коммунисты не смогли поддержать левых эсеров на заседании пленума исполкома Моссовета, руководство РКП(б) решило, что большевики будут голосовать «не как отдельные члены, а как целая фракция» (Там же. Л. 6). В итоге большевики единогласно проголосовали за роспуск МОСНК, тогда как левые эсеры не поддержали данное решение (Там же. Л. 7).
Ликвидация областного правительства значительно повлияла на взаимодействие двух партий в руководящих органах Московской области, особенно в комиссариатах. Так, принятие данного решения сказалось на работе коллегии комиссариата юстиции и вызвало новый конфликт между комиссаром А. А. Шрейдером и членами коллегии – большевиками. 11 мая 1918 г. в коллегии Н. А. Чегодаев поставил вопрос о поведении Шрейдера на заседании московского Совнаркома при голосовании о судьбе этого органа. Во время голосования левый эсер высказался против уничтожения областного правительства, тогда как Чегодаев поддержал решение большевистской фракции (ЦГАМО. Ф. 5060. Оп. 1. Д. 3. Л. 9). Большевик выразил недовольство действиями комиссара юстиции, отметив, что Шрейдер должен был представить не свое мнение, а позицию коллегии по данному вопросу (Там же. Л. 9 об.). Корень проблемы находился в сугубо политической, а не административной плоскости, так как Шрейдер был связан партийным постановлением, не позволявшим ему поддержать ликвидацию МОСНК. В связи с этим фактом мнение членов коллегии было для комиссара необязательным (Там же). При голосовании в МОСНК Шрейдер остался верен партийной дисциплине, как и остальные левые эсеры. Несмотря на критику со стороны членов коллегии, Шрейдер не посчитал предосудительным свое голосование в областном правительстве, и дискуссия по этому вопросу была прекращена.
Расформирование московских органов власти привело к прекращению работы областных учреждений. Левые эсеры – члены коллегии комиссариата земледелия – были не согласны с решением большевиков об упразднении МОСНК, однако ничего не смогли им противопоставить. На заседании коллегии комиссариата они признали, что с ликвидацией МОСНК суще- ствование областного комиссариата земледелия невозможно, поскольку «немыслимо творить земельную политику в области, не будучи органом власти» (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 30. Л. 58). 14 июня 1918 г. коллегия московского комиссариата земледелия избрала ликвидационную комиссию, к которой переходили все полномочия коллегии (Там же. Л. 70). Подобным образом был ликвидирован и областной комиссариат юстиции.
Принятая резолюция о роспуске московского правительства не являлась окончательным решением. У левых эсеров оставалась надежда, что МОСНК может быть восстановлен постановлением IV съезда советов Московской области, который открылся 26 июня 1918 г. Однако левые эсеры оказались в значительном меньшинстве на этом съезде и не имели шансов провести свои решения8. Их лидеры использовали трибуну съезда для критики действий РКП(б). Наиболее активным из левых эсеров был Д. А. Черепанов. Он выдвинул резолюцию, в которой осуждались ликвидация МОСНК и идея централизации управления государством, «делающая из местных работников бездушные автоматы по проведению предначертаний сверху» (ЦГА-МО. Ф. 683. Оп. 1. Д. 55. Л. 25). Мнение левых эсеров было проигнорировано большинством делегатов съезда. Съезд подтвердил роспуск московского областного Совнаркома (Там же). Таким образом, к началу июля 1918 г. взаимоотношения между большевиками и левыми социалистами-революционерами стали значительно более напряженными, что подрывало основы их сотрудничества.
С упразднением московского правительства взаимодействие двух партий было возможно только в структурах Моссовета, однако после событий 6-7 июля 1918 г. конфликт большевиков и левых эсеров превратился во вражду. Многие члены ПЛСР(и) были исключены из советских органов власти. 23 июля 1918 г. состоялся пленум Моссовета по вопросу об отношении большевиков к бывшим союзникам. Большевистская фракция приняла резолюцию, в которой содержалось требование к левым эсерам отмежеваться от политики своего ЦК и осудить убийство В. Мирбаха. В противном случае левые эсеры не допускались в исполком и на пленум Моссовета. Левоэсеровская фракция отказалась это сделать, после чего исполком Моссовета был переизбран, и в его состав вошли только большевики [ Алещенко , 1976, с. 113]. На этом событии участие левоэсеровских представителей в деятельности московских органов власти было завершено.
Заключение
Взаимодействие РКП(б) и ПЛСР(и) в органах власти Москвы и Московской области являлось важной характеристикой «долгой» революции 1917 г., в которой большевики не были единственной политической силой. Во многом именно коалиция с левыми эсерами позволила большевикам избавиться от своих политических конкурентов и укрепить советскую власть в Москве. Практики взаимодействия представителей двух социалистических партий во властных институтах Москвы и Московской области характеризовались конфликтами, имевшими как идеологический, так и сугубо административный характер. Конфликтные взаимоотношения большевиков и левых эсеров приводили представителей обеих партий к поиску компромиссных решений или же оборачивались кризисом. В случае с коллегией наркомата юстиции большевикам приходилось идти на компромиссы с руководителем комиссариата левым эсером А. А. Шрейдером. При этом партнерство с левыми эсерами поддерживали многие левые коммунисты, поскольку их взгляды на организацию местных органов власти во многом совпадали с левоэсеровскими.
Сотрудничество двух партий проявлялось в принятии совместных решений по управлению народными комиссариатами. Левые социалисты-революционеры сыграли важную роль в формировании московских городских и областных властных институтов. Однако продвижение В. И. Лениным курса на централизацию государственного управления не предполагало долгого существования московской областной власти. Разделявшие эти взгляды члены РКП(б) всячески способствовали ликвидации МОСНК и выступали против сотрудничества с левыми эсерами. Именно с данным фактором было связано возникновение множества столкновений в комиссариатах, многие из которых оказались неразрешимыми и выливались в постоянную конфронтацию между РКП(б) и ПЛСР(и). Тем не менее коалиция двух социалистических партий продолжа- ла существовать вплоть до решения большевистского руководства упразднить московский областной Совнарком. Рассмотренный в статье опыт двухпартийности, существовавший в рамках советской государственной модели, был уникальным феноменом в новейшей истории России, поскольку представители неонароднической партии наравне с РКП(б) участвовали в принятии управленческих решений. Это приводило к разделению властных полномочий между большевиками и левыми эсерами. Специфика данного опыта придает его изучению большую актуальность, поскольку позволяет лучше понять особенности раннесоветского политического развития.
Список литературы Практики революционной двухпартийности: коалиция большевиков и левых эсеров в органах власти Москвы и Московской области
- Алещенко Н.М. Московский Совет в 1917-1941 гг. М.: Наука, 1976. 591 с.
- Варламов К.И., Сламихин Н.А. Разоблачение Лениным теории и тактики «левых коммунистов» (ноябрь 1917-1918 г.). М.: Мысль, 1964. 415 с.
- Владимирова В. Левые эсеры в 1917-1918 гг. // Пролетарская революция. 1927. № 4. С. 101-140.
- Грунт А.Я. Москва 1917-й: Революция и контрреволюция. М.: Наука, 1976. 387 с.
- Гражданская война и военная интервенция в СССР: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983. 720 с.
- Гусев К.В. Крах партии левых эсеров. М.: Соцэкгиз, 1963. 259 с.
- ИгнатьевГ.С. Москва в первый год пролетарской диктатуры. М.: Наука, 1975. 379 с.
- Кром М.М. Новая политическая история: темы, подходы, проблемы // Новая политическая история: сб. науч. работ. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, Алетейя, 2004. С. 7-17.
- Лавров В.М. Левоэсеровская партия в революции 1917-1918 гг. // Политические партии в российских революциях в начале XX века. М.: Наука, 2005. С. 352-356.
- Леонтьев Я.В. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М.: АИРО-XXI, 2007. 326 c.
- Ленин и московские большевики. М.: Московский рабочий, 1977. 243 с.
- Марченкова Н.П. Тактика блока большевиков с левыми эсерами в период подготовки, победы и развития Октябрьской социалистической революции (на опыте Московской областной партийной организации): дис.... канд. ист. наук. М., 1977. 252 с.
- Пиндрик З. О блоке с левыми эсерами после Октября 1917 года // Красная летопись. 1934. № 3. С.110-130.
- Попова О.Г., Люхудзаев М.И. Левые эсеры и формирование советской государственности // Проблемы истории России. Екатеринбург, 1998. Вып. 2. С. 124-146.
- Серебрякова З.Л. Областные объединения советов России. Март 1917-декабрь 1918 гг. М.: Наука, 1977. 230 с.
- СпиринЛ.М. Классы и партии в Гражданской войне. М.: Мысль, 1968. 438 с.
- Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. Брестский мир: Октябрь 1917 – ноябрь 1918. М.: ТЕРРА, 1992, 656 с.
- Шестаков А.В. Блок с левыми эсерами: (страницы из истории Октябрьской революции) // Историк-марксист. 1927. № 6. С. 21-47.
- Юрьев А.И. Эсеры на историческом переломе (1917-1918). М.: Кучково поле, 2011. 333 с.
- Cinnella E. The Tragedy of the Russian Revolution. Promise and Default of the Left Socialist-Revolutionaries in 1918 // Cahiers du Monde russe. 1997. Vol. 38, no. 1-2. P. 45-85.
- Douds L. 'The Dictatorship of the Democracy'? The Council of People's Commissars as Bolshevik-Left Socialist Revolutionary Coalition Government, December 1917-March 1918 // Historical Research. 2017. Vol. 90, no. 247. P. 32-56.
- Douds L. Inside Lenin's Government: Ideology, Power and Practice in the Early Soviet State. London: Bloomsbury Academic, 2018. 240 p.
- Fitzpatrick S. Politics as Practice: Thoughts of New Soviet Political History // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5, no. 1. P. 27-54.
- Hafner L. The Assassination of Count Mirbach and the «July Uprising» of the Left Socialist Revolutionaries in Moscow, 1918 // Russian Review. 1991. No. 50. P. 324-344.
- Keep J. The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization. NY: Norton, 1976. 614 p.
- Rabinowitch A. The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in Petrograd. Indiana Univ. Press, Bloomington, 2007. 495 p.
- Radkey O. The Sickle Under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet Rule. NY: Columbia Univ. Press, 1963. 525 p.
- Shapiro L. The Origin of the Communist Autocracy. Political Opposition in the Soviet State. First Phase 1917-1918. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1977. 397 p.