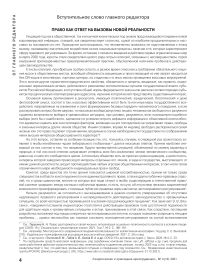Право как ответ на вызовы новой реальности
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Статья в выпуске: 4 (10), 2021 года.
Бесплатный доступ
Вступительное слово главного редактора
ID: 14123540 Короткий адрес: https://sciup.org/14123540
Текст ред. заметки Право как ответ на вызовы новой реальности
Уходящий год как в общественной, так и в научной жизни прошел под знаком продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, ставшей, как свидетельствует статистка, одной из наиболее продолжительных и массовых за последние сто лет. Приходится констатировать, что человечество оказалось не подготовленным к этому вызову, оказавшему значительное воздействие на все социальные процессы, включая и те, которые характеризуют сферу правового регулирования. За время, истекшее с момента введения в действие первых ограничительных мер в марте 2020 года, юристы стали свидетелями целого ряда острых коллизий, связанных с несовершенством, порой внутренней противоречивостью правоприменительной практики, обусловленной наличием пробелов в действующем законодательстве.
К числу коллизий, приобретших особую остроту, в разное время относились требование обязательного ношения масок в общественных местах, всеобщая обязанность вакцинации и проистекающий из нее запрет находиться без QR-кодов в кинотеатрах, торговых центрах, на стадионах и в иных местах проведения массовых мероприятий. Эти и многие другие ограничения юридического свойства, обязанности и запреты, вводимые, как правило, подзаконными нормативными актами, действиями и решениями исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в отсутствие общей нормы федерального закона или законов соответствующих субъектов породили резкую ответную реакцию адресатов, изучение которой может представлять существенный интерес.
Основной камень преткновения в дискуссиях, имеющих политический, юридический, биоэтический и даже философский смысл, состоит в том, насколько эффективными могут быть те или иные меры государственного воздействия, направленные на изменение и (или) формирование базовых парадигм человеческого поведения, а если рассматривать вопрос более широко, то насколько вообще допустимо лишать человека как свободного и разумного существа возможности выбора в чрезвычайных ситуациях, при условии, разумеется, если последствия подобного выбора (хотя бы и ошибочного, сделанного в условиях острого дефицита информации и объективной неспособности адекватно оценить всю констелляцию факторов, влияющих на эти последствия) не затрагивают права, свободы и законные интересы других членов общества. Иными словами, вправе ли индивид свободно распоряжаться своей жизнью или это право подлежит ограничениям, вводимым в случае необходимости государством по соображениям неких высших интересов общесоциального характера1?
На этот вопрос, оставляя за скобками позицию тех, кто, пользуясь случаем, в очередной раз громогласно заявляют о якобы неизбежном «крахе либерального глобализма»2, дается несколько ответов. Причем наиболее очевидный из них состоит в том, что пандемия, будучи чрезвычайной ситуацией, объективной по своему характеру и природе, в той или иной степени затрагивает интересы всех без исключения членов человеческого сообщества, равно как и само это сообщество в целом. А поскольку общество есть не простая сумма индивидов, а целостность, интересы которой заведомо превосходят интересы отдельных его членов, в задачи государства, выступающего от имени данной целостности, входит противодействие любым угрозам общественным интересам, в том числе путем ограничения по мере необходимости индивидуальных прав и свобод.
Кажется, среди юристов эта точка зрения пользуется широкой востребованностью, причем не только среди специалистов в области конституционного или административного права, а также других публично-правовых отраслей, но и среди цивилистов, многие из которых все чаще сетуют о якобы существующем в отечественной правовой системе «разрыве» между частным и публичным правом, то есть, по сути, об отсутствии легально закрепленной возможности трансформировать с помощью публично-правовых норм сам метод частноправового регулирования3.
Нельзя, разумеется, не согласиться с высказываемыми в данном контексте утверждениями об отсутствии надлежащего правового регулирования и неопределенности действующего законодательства о чрезвычайных ситуациях, со всей наглядностью проявившихся в условиях продолжающейся пандемии4. Как замечает Э. В. Власенко, «пандемия послужила индикатором отсутствия в действующем правовом поле достаточной подвижности для адаптации норм к чрезвычайным ситуациям и актам, принимаемым в этой связи. Как следствие, поспешная разработка положений под нужды конкретных частноправовых институтов, которые позволяют разрешить текущие проблемы…, однако неспособны как таковые составить полноценное регулирование на случай возникновения обстоятельств, сопоставимых с COVID-19»5. Таким образом, с точки зрения большинства авторов, так или иначе затрагивающих рассматриваемую проблематику, задача государства состоит в том, чтобы установить и законодательно закрепить такой нормативный порядок, который оказался бы в состоянии не только исчерпывающим образом урегулировать отношения, вытекающие из ситуации пандемии, но и предусмотреть регулирование подобных ситуаций на перспективу.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Представляется, что подобный «нормативный оптимизм» при всей отчетливости психологической установки, лежащей в его основе, едва ли оправдан по целому ряду причин. В самом деле, пандемия 2019–2021 годов имела целый ряд предвестников, на первый взгляд позволявших спрогнозировать ее наступление, подготовившись к нему заранее. Речь идет, в частности, о близкородственных штаммах MERS-CoV и SARS-CoV, принадлежащих, подобно SARS-CoV-2, к подсемейству ортокоронавирусов ( Orthocoronaviridae ), спровоцировавших уже несколько вспышек массовых заболеваний на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в конце 2000-х и в начале 2010-х годов6.
Тем не менее, прогнозировать, а тем более нормативно моделировать дальнейший ход событий, на наш взгляд, возможным не представляется. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить пандемию испанского гриппа, унесшего жизни порядка 50 миллионов человек во всем мире. Хотя этот штамм и является разновидностью хорошо известного серотипа H1N1, на счету которого не менее пяти пандемий, имевших место только в последнее столетие, всякое новое его появление оказывалось неожиданным и катастрофичным в силу последующего полного исчезновения штамма, вызвавшего очередную инфекцию. Аналогичным, если не более парадоксальным и непредсказуемым, образом дело обстоит и с нынешней коронавирусной инфекцией, относительно которой на перспективу можно предполагать с некоторой долей осторожности только одно, а именно полное исчезновение данного вируса из человеческой популяции, что сделает заведомо бессмысленными нынешние ограничительные меры в дальнейшем. Подчеркнем еще раз, что при всей массовости и многократной повторяемости тех отношений, о которых идет речь, они всегда останутся достаточно «нетипичными» для того, чтобы стать полноценным предметом нормативного регулирования.
Представляется совершенно правильным утверждение В. А. Белова, по словам которого ситуация пандемии не создает благоприятных условий для генезиса каких-либо общих норм. По мысли ученого: «Юридическое значение пандемии должно быть оцениваемо всякий раз индивидуально, применительно к данной конкретной совокупности фактических обстоятельств. Во всяком случае, ссылка на пандемию саму по себе ни о чем не говорит и никакого значения не имеет»7. Иными словами, в чрезвычайных условиях основным средством регулирования должны становиться не нормы, а в первую очередь субъективные права и обязанности сторон складывающихся отношений. Представляется, что всякий социальный, а тем более правовой институт как нормативное образование в ходе своего эволюционного развития неизбежно проходит стадию, при которой в отсутствие общезначимого и общеобязательного правила поведения такую роль выполняют субъективные права и обязанности, обладающие релевантностью ad hoc для участников соответствующих отношений.
Данная идея базируется на общетеоретических предпосылках социального и юридического номинализма (представляющего идейную альтернативу реализму, которым руководствуются сторонники нормативного подхода), суть которого состоит в том, что общество представляет собой сумму его членов, связанных между собой многообразными коммуникативными взаимодействиями. Необходимой предпосылкой правового общения выступает в рамках данного подхода наличие обоюдных правопритязаний субъектов, признаваемых всеми прочими участниками юридической коммуникации. Речь, таким образом, идет о взаимном признании индивидами друг друга в качестве обладателей неотъемлемых и неотчуждаемых прав, смысловым и ценностным ядром которых выступают основные естественные права и свободы человеческой личности, подлежащие в силу самой своей природы всеобщему признанию коммуникантами8.
Следовательно, любые действия, предпринимаемые в интересах общества в целом, а в особенности действия, направленные на ограничение той естественной свободы, выражением которой выступает правосубъектность как способность обладать правами и обязанностями9, должны стать выражением общей воли всех членов социального целого, то есть получить признание со стороны каждого из них. Иными словами, каждый участник правового общения добровольно должен принять на себя юридическую обязанность отказаться от какой-то части своей личной свободы в интересах других индивидов. При несоблюдении указанного требования, то есть в тех случаях, когда воля какой-то части общества (хотя бы и большинства) не трансформируется в общую волю, легитимность вводи-
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
мых ограничений будет поставлена под сомнение, подтверждением чему служит подспудное неприятие многими нашими согражданами предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом, чья целесообразность и эффективность сомнений не вызывает.
Думается, что лишь при формировании работающих механизмов достижения согласия по жизненно важным вопросам (к числу которых, разумеется, относится и преодоление чрезвычайных ситуаций) можно говорить о реальном формировании общей воли, принадлежащей социальному целому. Формирование и внешнее выражение этой воли возможно благодаря тому, что общество (если рассматривать его на достаточно высоком уровне научного абстрагирования) является не менее реальным участником социальной и юридической коммуникации, чем отдельные его члены. Следовательно, согласие индивидов, лежащее в основе любых актов общественного волеизъявления, будет способствовать принятию тех или иных дополнительных обязанностей и ограничений, спровоцированных нынешней экстраординарной ситуацией.
Пути и средства согласования частных интересов и индивидуальных волевых актов, ведущие к образованию воли социума как sui generis участника правового общения, многообразны. И хотелось бы надеяться, что авторы публикаций, размещенных на страницах очередного выпуска журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция», исследуя актуальные в научном и практическом плане проблемы, также внесут свой посильный вклад в решение данной задачи.
Главный редактор
Разуваев Николай Викторович