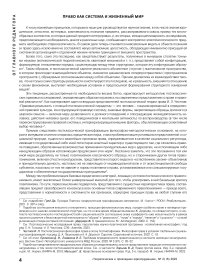Право как система и жизненный мир
Автор: Разуваев Н. B.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 2 (16), 2023 года.
Бесплатный доступ
ID: 14127832 Короткий адрес: https://sciup.org/14127832
Текст ред. заметки Право как система и жизненный мир
К числу важнейших принципов, которыми в наши дни руководствуется научное знание, в том числе знание юридическое, относятся, во-первых, комплексность познания предмета, рассматриваемого сквозь призму тех многообразных контекстов, в которые данный предмет интегрирован, и, во-вторых, междисциплинарность исследования, предполагающего необходимость диалога различных наук, сообщающего восприятию эпистемологического предмета необходимую стереоскопичность. В самом деле теперь становится невозможным видеть в объекте познания (и право здесь исключения не составляет) некую автономную целостность, обладающую имманентно присущей ей системной организацией и отделенной некими четкими границами от внешнего пространства.
Более того, само это последнее, как свидетельствуют результаты, полученные в минувшем столетии точными науками (математической теорией множеств, квантовой механикой и т. п.), представляет собой конфигурацию, формируемую отношениями порядка, существующую между теми структурами, которые эту конфигурацию образу-ют1. Таким образом, в постклассической картине реальности абсолютное («пустое») ньютоновское пространство, в котором происходит взаимодействие объектов, сменяется динамическим гиперпространством («пространством пространств»), образуемым соотнесенными между собой объектами. Причем диалектика их взаимодействия такова, что не только сами структуры реальности конституируют эту последнюю, но и реальность, внешняя по отношению к своим феноменам, выступает необходимым условием и предпосылкой формирования структурного измерения вещей2.
Эти тенденции, рассмотренные по необходимости весьма бегло, характеризуют методологию постклассических правовых исследований, определяющим образом отражаясь на современных представлениях о праве и правовой реальности3. Как подчеркивает один из ведущих представителей постклассической теории права И. Л. Честнов: «Правовая реальность с позиций постклассической парадигмы — это человек… социализированный в определенной правовой культуре, конструирующий правовую систему; знаковые формы, закрепляющие образцы должного (в широком смысле — включая меру дозволенного и должного поведения) и опосредующие жизнедеятельность человека; действия человека (шире: его поведенческая и ментальная активность) по воспроизводству (в том числе переконструированию правовой системы), интериоризирующие внешние факторы, обусловливающие селективный выбор человека»4.
Прямым следствием постклассической трансформации философско-методологических оснований, на которые в минувшем столетии опиралась юридическая наука, стала проблематизация устоявшихся представлений о социальной природе, сущности и важнейших признаках права, определявшегося в качестве социального регулятора, имеющего государственный либо иной потестарно-властный характер и существующего там, где сложились правила поведения, обеспеченные возможностью применения принудительных мер к адресатам, не исполняющим либо ненадлежащим образом исполняющим предписания этих норм5. Несложно заметить, что эти положения в той или иной мере разделялись не только позитивизмом классического образца, но и сторонниками других типов право-понимания, включая отчасти юснатурализм, представители которого видели в «естественном законе» объективную и принудительную данность, настолько же не зависящую от индивидуальной воли и от экзистенциальной свободы субъектов, насколько от них не зависят и нормы позитивного права, устанавливаемые или санкционируемые государством и обеспеченные государственным принуждением6.
Между тем проблематизация базовых юридических категорий, лежащая у истоков постклассического правопо-нимания, имеет значительно более универсальный масштаб для того, чтобы усматривать в ней банальную критику позитивизма. По сути, переосмыслению подверглись представления о сущностных характеристиках права, составлявшие предмет своеобразного консенсуса всех основных типов современного правопонимания — прежде всего, представления о нормативности и системности как признаках, априрорно присущих праву на любой ступени его развития и в любых социальных, исторических и цивилизационных контекстах, если угодно, присущих праву как таковому. Причем эти признаки, свидетельствующие о достижении социальным порядком юридически урегулированного и, следовательно, политически организованного состояния, искали не только в синхронии, но и в диахронной ретроспективе7.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Вопрос о происхождении права тем самым переводился в плоскость генезиса юридических норм, из которых, как из клеточек, складывались «органические» нормативные общности, а именно правовые институты и отрасли права, в наличии которых ученые усматривали необходимые атрибуты всякого правопорядка, на какой бы ступени исторического развития ни стоял этот последний8. Как следствие, структура любого правопорядка (будь то древневавилонское право Законов Хаммурапи, римское частное право, древнерусское право эпохи Русской Правды и т. п.) конституировалась по образу и подобию современных национальных правовых систем, каждая из которых наглядно может быть представлена в виде иерархического древа, включающего в себя в качестве самостоятельных ветвей отрасли, подотрасли, институты и нормы права.
Однако, спустившись с вершин умозрительных построений к эмпирии, обращаясь к правопорядкам прошлого в их исторической конкретике, нельзя не заметить следующие два обстоятельства. Во-первых, для всех таких правопорядков характерен бросающийся в глаза дефицит общеобязательных правил поведения, рассчитанных на неограниченный круг лиц и многократность применения, что делает невозможными априорные умозаключения относительно нормативной структуры таких правопорядков, а также относительно толкования и применения гипотетически конституируемых post factum «правил»9. Во-вторых, структурно большинство правопорядков прошлого логически имеют неиерархический характер, представляя собой не вертикальное древо, а скорее некое подобие диаграммы Эйлера — Венна, компоненты которой наложены друг на друга в горизонтальной плоскости, частично пересекаясь между собой. Подобная неиерархичность (присущая римскому частному праву в той же степени, что и праву Древней Руси) не позволяет вести речь об отраслях, а также иных нормативных общностях, что зачастую препятствует адекватному описанию структуры правопорядков прошлого историками и юристами, подходящими к вопросу с априорных, заранее данных позиций. Как следствие, ученые, констатирующие, например, отсутствие отраслевой группировки материала в средневековых законодательных памятниках, одновременно пытаются выделять нормы различной отраслевой принадлежности, например уголовно-правовые, гражданско-правовые, процессуальные и т. п.10
При этом остается без ответа вопрос, как можно квалифицировать те или иные нормы в качестве «гражданских», «уголовных», «процессуальных» в отсутствие соответствующих нормативных общностей, то есть отраслей права? Так, если в рамках какой-либо правовой традиции некий законодательный памятник А предполагал имущественную ответственность за причинение вреда здоровью, тогда как в памятнике В , принадлежащем к той же традиции, за совершение аналогичного действия была предусмотрена уже карательная санкция, ничто не дает оснований делать вывод о том, что санкция А является гражданско-правовой, а санкция В — уголовной. Речь скорее должна идти о различии субъективного права требования и корреспондирующей ей обязанности в правоотношении, возникающем из соответствующего правонарушения, которое, например, римские юристы в одну эпоху квалифицировали как частный деликт, тогда как в другую эпоху уже в качестве публичного деликта11.
Преодолению указанных затруднений, на наш взгляд, может способствовать осознание того обстоятельства, что право в плане своего внешнего выражения может принимать различные формы и обладать различной структурой, в зависимости от условий социокультурной среды, исторического контекста, а также от иных эволюционных факторов. Представляется, что именно поэтому признаки нормативности и системности, играющие столь важную роль в современных условиях, не являлись необходимыми атрибутами правовой коммуникации в прошлом, поскольку те же самые функции, которые в развитых правопорядках выполняет иерархическая система правовых норм (а именно регулятивную и охранительную), на иных этапах эволюции правовой коммуникации могут с неменьшим успехом выполняться, например, субъективными правами и обязанностями, неиерархически соотнесенными между собой в рамках горизонтального пространства правового общения.
Учитывая сказанное, мы имеем основания констатировать логическую непоследовательность и семантическую беспредметность таких популярных в теоретической литературе дефиниций права per genus et differentiam , как «система общеобязательных, формально определенных норм»12. Это, разумеется, вовсе не означает, что
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
общеобязательность, нормативность, системность и формальная определенность не присущи праву, то есть не являются его признаками. Однако отсутствие одного, нескольких или даже всех указанных признаков не лишает права способности выполнять присущую ему функцию средства коммуникации, конституирующего правопорядок и обеспечивающего возможности для реализации экзистенциальной и социальной свободы, которой обладают члены общества, являющиеся участниками правового общения.
Заведомо обречены на неудачу, следовательно, попытки дать универсальную дефиницию, позволяющую установить, что собой представляет «право на самом деле»13, поскольку все такого рода дефиниции, являясь, в отличие от естественно-научных или математических определений, употреблениями обыденного языка, имеют контекстуально-связанный характер, а потому не свободны от условностей, неизбежно сопутствующих языковым играм такого рода14. Вообще, пытаясь с позиций постклассического подхода сформулировать дефиницию и выделить основные признаки права, необходимо учитывать справедливое замечание А. В. Полякова, утверждавшего, что «права “как такового” не существует. Это означает, что у данного слова нет определенного эмпирически узнаваемого референта. Слово “право” не привязано к какому-либо внешнему узнаваемому объекту»15.
Более того, в традиционных цивилизациях прошлого не имели эмпирического референта и большинство системных конструктов, принимаемых в качестве данности современным научным мышлением, в том числе «общество», «государство», «язык» и, конечно же, право, если видеть в последнем исключительно многоуровневую вертикальную иерархию норм, распространяющих свою обязательную силу на всех членов социума. Представляется более верным иной подход, согласно которому право и правопорядок в целом, рассматриваемые в качестве совокупности субъективных прав и обязанностей, представляют собой, особенно в диахронном измерении, неиерархическую структуру, элементы которой возникают спонтанно, вне контекстуальной обусловленности целым, а потому такая структура еще не может выступать в виде системы, то есть упорядоченной взаимосвязи элементов. В свете сказанного приобретают теоретическую значимость два взаимосвязанных, хотя на начальных этапах теоретического осмысления искусственно разъединенных, образа права и правовой реальности, а именно как системы и как жизненного мира .
Существует большое количество наглядных фактических иллюстраций к тезису о том, что всякое первичное общение, будь то общение межличностное или социальное, имеет форму горизонтального взаимодействия, сохраняющего свою устойчивость до тех пор, пока влияние внешних факторов или усложнение знаковых средств коммуникации не заставляют участников обращаться к посредничеству внешнего авторитета, чья роль как раз и заключается в том, чтобы трансформировать горизонтальные неиерархические связи в вертикальную иерархию. В исторической ретроспективе наиболее ярким примером «жизненного мира» такого рода является первобытный социальный порядок с его горизонтальными отношениями родства и эквивалентного взаимообмена.
По словам Ю. Хабермаса: «Концепт жизненного мира скорее всего находит себе эмпирическое подкрепление в архаических обществах, где структуры опосредованных языком интеракций образуют одновременно опорные социальные структуры. Тип малых догосударственных обществ, исследованный преимущественно английскими со-циал-антропологами в Африке, Юго-Восточной Азии и Австралии, отличается… сравнительно большой сложностью и поразительной социальной динамикой»16. Вместе с тем ошибкой было бы полагать, что с переходом от первобытности к цивилизации горизонтально структурированный правопорядок уступает место вертикальной иерархии норм, установленных государством и легитимированных его принудительной силой.
Подобное упрощенное представление, характерное для однолинейного эволюционизма конца XIX столетия17, продемонстрировало свою несостоятельность в ходе всесторонних исследований правовых традиций прошлого от древневосточной и античной до западной традиции права в период ее формирования. Эти исследования показали глубокую укорененность правовой регуляции традиционного общества в горизонтах жизненного мира людей, а также ее неразрывную связь с моральными, религиозными и собственно правовыми ценностями, выполнявшими ту же легитимирующую функцию, какую лишь в современной высокотехнологичной цивилизации начинают выполнять нормы права и государственное принуждение. Следовательно, любая традиционная цивилизация, способная обеспечивать прямое и непосредственное общение индивидов между собой, а также с ближайшим и более отдаленным (в том числе и во времени) окружением, не требует для своего поддержания и воспроизводства общеобязательных правил поведения.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Необходимость в последних проявляется в полной мере лишь с наступлением эпохи модерна, когда на процессы коммуникации, в том числе коммуникации правовой, начинают оказывать влияние тенденции отчуждения и анонимизации человеческой личности, усиливающиеся в современных массовых обществах. Размышляя об этом, В. Гавел писал: «И мальчик, и средневековый крестьянин куда сильнее, чем большинство современных взрослых, укоренены в том, что философы обозначают термином “естественный мир”, или Lebenswelt . Они еще не отчуждены от мира собственного непосредственного опыта… Наше изначальное “я” служит личным свидетельством и “подтверждением” этого мира; это мир нашего живого опыта, еще не равнодушный, поскольку мы лично привязаны к нему в нашей любви, ненависти, почтении, презрении, традициях, в наших интересах и той незамутненной анализом осмысленности, из которой рождается наша культура»18.
Ускорение социальной динамики не только расширяет горизонты жизненного мира, но и приводит его к стремительной инфляции, делегитимирующей социальные и правовые порядки, что, в свою очередь, приводит к перестройке их организации на принципиально новых началах системности19. Для современного общества последняя обладает мощным легитимирующим эффектом, особенно в тех сложных и внутренне противоречивых условиях, которыми характеризуется эпоха модерна20. Тем не менее рассматриваемая тенденция формирования вертикальной (системной) иерархии не приводит к вытеснению горизонтальных коммуникативных связей на периферию правовой реальности, поскольку структуры жизненного мира обладают настолько неисчерпаемым самолегитимирующим потенциалом, что формирование системы норм на их основе завершается, как уже было отмечено, лишь сравнительно недавно (а в некоторых регионах правовой реальности не завершилось до сих пор). Кроме того, и в современном правопорядке система играет роль надстройки над многообразными и динамичными неиерархическими отношениями, образующими содержание жизненного мира, то есть является структурой второго порядка по отношению к ним.
Таким образом, не только в диахронной (исторической) ретроспективе, но и в современных правовых порядках системность права является хотя и важным, но не исчерпывающим и тем более не единственным его релевантным свойством. Это, казалось бы, самоочевидное обстоятельство вызывает активное неприятие со стороны некоторых авторов, вероятно, считающих системность права единственным достойным внимания предметом его научного рассмотрения21. Защитники системности, впрочем, явно не учитывают, что проблематизация понятия и признаков права, в том числе признаков нормативности, системности и т. п., не только не препятствует росту юридических знаний, но и, напротив, выводит их на качественно новый уровень. Вообще, не будет излишней смелостью утверждать, что понятие права, являющееся аксиомой для специальных юридических дисциплин, сейчас все больше нуждается в критическом переосмыслении, учитывающем качественное своеобразие правовой коммуникации в различных областях социальной реальности, а также в разные исторические эпохи.
Отправной точкой для такого переосмысления служит выделение сущностных признаков, акцентируемых сторонниками постклассического правопонимания, а именно: во-первых, конструируемость права взаимодействующими индивидами как полноценными социальными субъектами (а не просто абстрактными «юридическими личностями») и, во-вторых, историческая изменчивость права, обусловленная сложным комплексом естественных, антропологических, психологических и социокультурных факторов, способствующих постепенному усилению системных свойств правовой реальности по мере ее эволюции. Конкретизация указанных признаков на обширном эмпирическом материале является перспективной задачей, способной придать мощный импульс развитию как теоретико-правового знания, так и отраслевых юридических наук.
Николай Викторович Разуваев, главный редактор