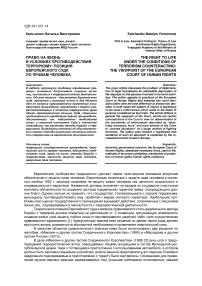Право на жизнь в условиях противодействия терроризму: позиция Европейского суда по правам человека
Автор: Кальченко Наталья Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 21, 2014 года.
Бесплатный доступ
В работе затронута проблема определения правовых оснований допустимого лишения жизни лиц, причастных к террористической деятельности. Объект анализа - два решения Европейского суда, принятые с разницей почти в два десятка лет по вопросу правомерности применения государством принуждения, приведшего к смерти лиц, рассматриваемых в качестве террористов. Дана общая характеристика позиции Суда, отмечены противоречия в определении границ принуждения, обозначенного как «абсолютно необходимая сила», и лояльное отношение Суда к «точечной ликвидации» как жесткому методу борьбы с терроризмом. Выдвинута гипотеза об обусловленности такого подхода возросшей степенью опасности терроризма на европейском пространстве.
Терроризм, государственное принуждение, европейский суд по правам человека, абсолютно необходимая сила, право на жизнь, методы борьбы с терроризмом, механизм защиты прав человека, нарушения прав человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14936516
IDR: 14936516 | УДК: 341.231.14
Текст научной статьи Право на жизнь в условиях противодействия терроризму: позиция Европейского суда по правам человека
Европейское сообщество традиционно уделяет самое пристальное внимание вопросам обеспечения и защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. априори нацелена на защиту жизни человека как ценности социального и индивидуального характера. Названный договор возлагает на каждое из государств-участников комплекс обязательств по созданию системы юридических гарантий права, опосредующего данное благо. Однако нельзя не признать, что государства, сталкивающиеся с угрозой терроризма, вынуждены противодействовать ему, прибегая к мерам силового характера. Наибольшие проблемы при оценке государственного принуждения вызывают действия, сопряженные с лишением жизни лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Теоретически позиция Европейского суда в вопросе приемлемости столь радикального метода борьбы с террором должна опираться на диспозицию ст. 2 конвенции, допускающую возможность лишения жизни «для защиты любого лица от противоправного насилия» либо «для осуществления правомерного задержания» [1]. Краеугольным камнем всех решений по делам такого рода должен выступать вопрос доказанности абсолютной необходимости применения смертоносной силы.
В качестве объектов сравнительного анализа нами были использованы два решения по жалобам: «Макканн и другие против Соединенного Королевства» (1995) и «Масхадова и другие против России» (2013).
В деле «Макканн и другие против Соединенного Королевства» (1995) [2] речь шла о предупреждении террористических актов, совершаемых лицами, входящими в состав Ирландской республиканской армии. Зная о готовящемся преступлении с использованием автомобиля, в котором должно быть заложено взрывное устройство, власти решили предотвратить акт террора. В момент задержания подозреваемые в приготовлении к теракту были застрелены. Основанием для применения оружия явилась реакция задерживаемых лиц: услышав требование остановиться, каждый из них сделал движение рукой либо к внутреннему карману, либо к сумочке, либо к бедру; указанные действия были расценены как попытка дистанционного управления взрывным устройством. После смерти предполагаемых террористов выяснилось, что ни оружия, ни дистанционного устройства никто из них при себе не имел. Однако позже полиция обнаружила автомобиль, взятый напрокат одним из погибших на чужое имя, в котором было заложено взрывное устройство.
Решение Суда по данному делу выглядит довольно уязвимым. С одной стороны, он воспринял аргументы лиц, применивших оружие и при этом полагающих свои действия абсолютно необходимыми для защиты права на жизнь потенциальных жертв теракта: «Применение силы лицами, находящимися на службе государства, для достижения одной из целей, указанных в п. 2 ст. 2 Конвенции, может быть оправдано в соответствии с этой статьей в тех случаях, когда применение силы основывается на искреннем убеждении, которое может считаться верным в момент совершения действия, но впоследствии оказывается ошибочным. Выносить иное решение – означало бы возложить нереальный груз ответственности на плечи государства и сотрудников правоохранительных органов при выполнении долга и даже подвергать опасности их жизни и жизни других людей» [3]. Однако в резолютивной части постановления прозвучал довольно неожиданный вывод: «Суд не убежден, что лишение жизни трех террористов представляло собой применение силы, абсолютно необходимой для защиты людей от противоправного насилия по смыслу ст. 2 п. 2 (а) Конвенции. Упущение властей также дает основания предполагать, что не была проявлена необходимая осторожность при контроле и проведении операции задержания».
Таким образом, позиция европейского правосудия по вопросу толкования понятия «абсолютно необходимая сила» выглядит непоследовательной. Создается впечатление, что судьи капитулируют перед своей собственной аргументацией, опасаясь последствий признания легитимности за радикальными силовыми действиями государств.
Проблема допустимости лишения жизни в ходе противодействия терроризму затронута и в постановлении Суда по делу «Масхадова и другие против Российской Федерации» (2013) [4]. Одиозный политический деятель и военачальник А. Масхадов, позиционировавший себя в качестве борца за свободу чеченского народа, в России вполне обоснованно считался террористом. Неудивительно, что Суд, в духе европейски идеологизированного подхода, именует человека, совершившего ряд тяжких преступлений, «лидером вооруженных повстанцев», избегая терминологии отрицательного характера. Тем не менее его оценка действий государства выражается в констатации отсутствия нарушений ст. 2 Конвенции в отношении обстоятельств причинения А. Масхадову смерти. Известно, что этот человек был уничтожен в ходе спецоперации с помощью метода «точечной ликвидации». Заметим, что данный метод вызывает весьма неоднозначную юридическую оценку, поскольку представляет собой действия по уничтожению лица не во время совершения им террористического акта, а на стадии приготовления к преступлению или после того, как преступление окончено и лицо успело скрыться. При точечной ликвидации гарантии добровольной сдачи, позволяющие избежать смерти, не предусмотрены вовсе. Тем не менее Суд фактически признал, что в указанных обстоятельствах примененная государством сила имеет характер «абсолютно необходимой».
Суд не усмотрел также нарушений требований ст. 2 Конвенции в отношении расследования обстоятельств смерти А. Масхадова. Следует заметить, что в практике Суда было немало дел, по которым выносились решения, признающие факт нарушения ст. 2 Конвенции не в материальном, а в процессуальном аспекте. Процессуальные обязательства государства возлагают на его правовую систему обязанность обеспечить проведение эффективного расследования по любому факту причинения смерти лицами, применяющими принуждение от имени государства. Таким образом, Россия смогла избежать претензий в свой адрес, несмотря на то что оценка чеченских событий со стороны Европейского суда нередко выглядит пристрастной.
Очевидно, что фабулы упомянутых в работе постановлений Суда существенно разнятся по характеру обстоятельств, в рамках которых действовали лица, наделенные государственными полномочиями. Однако их объединяет одна актуальнейшая проблема – проблема определения той грани, которая отделяет правомерно примененное принуждение, необходимое для обеспечения общественной безопасности, от прямых нарушений прав человека. Можно предположить, что трансформация позиции Суда в сторону более лояльного отношения к жестким методам противодействия терроризму обусловлена возросшей степенью террористической угрозы на территории Европы.
Подводя итог, можно отметить, что отдельные решения Суда, касающиеся права на жизнь, могут становиться предметом дискуссии. Иногда позиция членов Суда выглядит спорной, иногда – политизированной. Но, несмотря на это, следует признать, что на сегодняшний день Европейский суд по правам человека – это наиболее эффективный орган в структуре международного механизма защиты прав человека.
Ссылки:
-
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс]. URL: http://www. base.gar-ant.ru/2540800/ (дата обращения: 20.11.2014).
-
2. Макканн и другие против Соединенного Королевства : постановление Европейского суда по правам человека от 27 сентября 1995 г. (жалоба № 18984/91) [Электронный ресурс]. URL: http://www.base.garant.ru/2561489/ (дата обращения: 15.11.2014).
-
3. Там же.
-
4. Масхадова и другие против Российской Федерации : постановление Европейского суда по правам человека от 6 июня 2013 г. (жалоба № 18071/05) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70695252/ (дата обращения: 15.11.2014).
Список литературы Право на жизнь в условиях противодействия терроризму: позиция Европейского суда по правам человека
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод . URL: http://www.base.garant.ru/2540800/(дата обращения: 20.11.2014).
- Макканн и другие против Соединенного Королевства: постановление Европейского суда по правам человека от 27 сентября 1995 г. (жалоба № 18984/91) . URL: http://www.base.garant.ru/2561489/(дата обращения: 15.11.2014).
- Там же.
- Масхадова и другие против Российской Федерации: постановление Европейского суда по правам человека от 6 июня 2013 г. (жалоба № 18071/05) . URL: http://www. от http://base.garant.ru/70695252/(дата обращения: 15.11.2014).