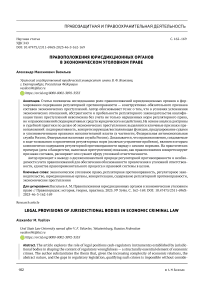Правоположения юрисдикционных органов в экономическом уголовном праве
Автор: Васильев А.М.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Правозащитная и правоохранительная деятельность
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию роли правоположений юрисдикционных органов в формировании содержания регуляторной противоправности — конструктивно-обязательного признака составов экономических преступлений. Автор обосновывает тезис о том, что в условиях усложнения экономических отношений, абстрактности и пробельности регуляторного законодательства квалификация таких преступлений невозможна без учета не только нарушенных норм регуляторного права, но и правоположений (поднормативных средств юридического воздействия). На основе анализа доктрины и судебной практики по делам об экономических преступлениях выделяются ключевые признаки правоположений: поднормативность, конкретизирующая/восполняющая функция, продуцирование судами и уполномоченными органами исполнительной власти (в частности, Федеральная антимонопольная служба России, Федеральная налоговая служба России). Доказывается, что правоположения, создаваемые в ходе толкования и применения регуляторных норм (включая устранение пробелов), являются вторым компонентом содержания регуляторной противоправности наряду с самими нормами. На практических примерах (дела о банкротстве, налоговых преступлениях) показано, как правоположения конкретизируют признаки составов, расширяют или сужают сферу уголовной ответственности. Автор приходит к выводу о двухкомпонентной природе регуляторной противоправности и необходимости учета правоположений для обеспечения обоснованности привлечения к уголовной ответственности, единства правоприменительного процесса и правовой системы в целом.
Экономическое уголовное право, регуляторная противоправность, регуляторное законодательство, юрисдикционные органы, конкретизация, содержание регуляторной противоправности, экономические преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14134032
IDR: 14134032 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-162-169
Текст научной статьи Правоположения юрисдикционных органов в экономическом уголовном праве
Уголовно-правовые запреты, предусмотренные нормами экономического уголовного права, основаны на нормах регуляторного законодательства. В связи с этим квалификация экономических преступлений без опоры на нормы регуляторного законодательства просто немыслима. Нарушение норм регуляторного законодательства преступным деянием порождает регуляторную противоправность, которая выступает одним обязательных условий привлечения лица к уголовной ответственности за экономическое преступление.
Усложнение экономических отношений прямо влияет на усложнение норм, регулирующих такие отношения и, как следствие, порождает трудности в применении связанных с ними норм экономического уголовного права. Данные трудности связаны, с одной стороны, с высокой степенью абстрактности норм регуляторного законодательства, а, с другой, с пробелами в регуляторном законодательстве.
Поскольку законодатель не всегда успевает оперативно и сообразно меняющимся реалиям вносить изменения в уголовное и регуляторное законодательство, то конкретизация действующих норм и устранение пробелов происходит в рамках правоприменительной практики, осуществляемой как судами, так и органами исполнительной власти (регуляторами), уполномоченными на рассмотрение юридических споров.
В связи с этим, актуальным, на наш взгляд, является поиск ответа на вопрос о том, являются ли правопо-ложения юрисдикционных органов частью содержания регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве? Полагаем, что ответ на данный вопрос расширит наши представления о регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве.
Материалы и методы
В настоящей работе использованы материалы судебной практики по уголовным делам, связанным с совершением экономических преступлений (в частности, предусмотренных ст. 178, 195, 199 УК РФ), а также академическая литература, посвященная проблематике правоположений. В основу проведения исследования легли общенаучные и частнонаучные методы познания, метод анализа, а также герменевтический метод.
Описание исследования
Научная обработка явления «правоположение» была осуществлена в СССР во второй половине XX века.
С. Н. Братусь и А. Б. Венгеров рассматривают пра-воположения в качестве результата судебной деятельности по применению правовых норм путем раскрытия их смысла, содержания, а также конкретизации и детализации [5, с. 16–17]. Анализируя формы судебной практики, ученые-правоведы заключают, что право-положение — это юридическое понятие, охватывающее такие юридические образования, как руководящие разъяснения (на уровне пленума Верховного Суда СССР) и прецеденты толкования; понятие, приближающееся к правовым нормам, но не совпадающее с ними полностью [5, с. 65]. Авторы также приходят к выводу, что конкретизирующие норму права правоположения нормой права не являются, поскольку не обладают ее структурными элементами [5, с. 25–26]. Соответственно, правоположения являются поднормативным явлением, т. е. основаны на нормах права.
А. К. Безина также выделяет значимую роль пра-воположений в процессе правоприменения советского трудового права при буквальном толковании норм трудового права, ограничительном и распространительном толковании норм трудового права, аналогии права и закона, и в судебном правотворчестве [2; 3].
В. В. Лазарев, исследуя правоположения и их место в механизме правового регулирования, отмечает, что под правоположениями понимается поднормативное средство юридического воздействия на общественные отношения, основными источниками которого являются толкование, конкретизация права, аналогия права и закона [11, с. 7–15]. Ученый-правовед указывает, что правоположения обладают признаком поднормативности, т. е. привязаны к определенным нормам и находятся в своеобразной подчиненности, не имеют собственных средств обеспечения [11, с. 9–10].
-
В . И. Леушин, анализируя правоположения, пишет, что правоположения — это нормы, имеющие юридическое содержание. При этом, ученый-правовед делает оговорку, что правоположения с точки зрения формы не являются нормой права в значении, придаваемом теорией права, поскольку продуцируются не законодателем, а правоисполнителем [12, с. 114].
На самостоятельности правоположений как отдельного и отличного от норм права юридического явления также настаивает С. С. Алексеев [1, с. 351].
Анализ позиций приведенных авторов позволяет выделить существенные признаки правоположений, а именно:
-
– субъектом, продуцирующим правоположение, являются судебные органы;
-
– поднормативность, т. е. правоположение является результатом толкования и применения норм права, поэтому оно основано на нормах права;
-
– самостоятельность, т. е. правоположения не являются нормами права в силу отсутствия, во-первых, структуры, свойственной норме права (гипотеза, диспозиция и санкция), а, во-вторых, в силу ненадлежащего субъекта их продуцирования — судебного органа, в-третьих, в силу отсутствия закрепления в нормативноправовых актах;
-
– обладают свойством нормативности;
-
– конкретизируют нормы права в процессе правоприменения, расширяют (или сужают) объем их содержания, а также устраняют пробел в законе в результате применения аналогии закона.
Современные ученые-правоведы также признают наличие приведенных выше признаков правоположе-ний [10, с. 63], при этом рассматривая правоположения в качестве либо нетипичного [15], специфического [8, с. 77] или вспомогательного [14] источника права, либо средства самоограничения судебной системы от произвольного судебного усмотрения при толковании оценочных понятий [4, с. 85–94].
Исследования, посвященные правоположениям, проводились также учеными-правоведами наук уголовно-правового цикла. Так, З. А. Незнамова, рассматривая правоположения в качестве самостоятельного элемента коллизионного уголовно-правового механизма, выделяет три признака правоположений:
-
– отсутствие признака нормативности, вследствие чего правоположения не являются нормами права;
-
– правоположения вырабатываются в ходе правоприменительной деятельности и направлены на ее обслуживание;
-
– правоположения объективируются в актах правоприменительных органов [13, с. 59–60].
-
Б . В. Яцеленко, определяя правоположения в уголовном праве в качестве выработанных наукой уголовного права определенных правил преодоления
конкуренции уголовно-правовых норм, отмечает, что правоположения объективируются не только в актах правоприменительных органов, а также и в самом уголовном законе, приводя в качестве примера ст. 17 УК РФ. Признак объективации правоположений в уголовном законе, на наш взгляд, был подвергнут обоснованной критике А. А. Васильченко, который высветил противоречие в позиции Б. В. Яцеленко, согласно которой правоположения не являются нормами права, источниками которых является уголовный закон [7, с. 23]. Присоединяясь к критике А. А. Васильченко, отметим, что правоположения после их объективации приобретают признаки общеобязательности и формальной определенности, которые свойственны только нормам права, закрепленным в нормативно-правовых актах, к которым относится УК РФ.
Учитывая приведенные выше позиции ученых-правоведов относительно признаков правоположений, отметим, что указанное явление обладает спецификой в экономическом уголовном праве при анализе регуляторной противоправности деяния.
Под регуляторной противоправностью нами понимается конструктивно-обязательный признак деяния как элемента объективной стороны любого состава экономического преступления, характеризующийся нарушением субъектом норм регуляторного законодательства, а также правоположений юрисдикционных органов [6]. Соответственно, содержание регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве составляют как нарушенные субъектом нормы регуляторного законодательства, так и правоположения юрисдикционных органов.
Установление регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве неизбежно влечет за собой необходимость юридического анализа норм регуляторного законодательства для цели их последующего применения. Указанный анализ может быть затруднен отсутствием однозначных ответов в регуляторном законодательстве относительно противоправности или правомерности человеческого поведения, а также абстрактностью и аморфностью положений регуляторного законодательства [9], что требует обращения к правоположениям юрисдикционных органов, в частности, судов. Так, А. Н. Тарбагаев и Е. Б. Тарбагаева, рассматривая особенности применения норм гл. 22 УК РФ в контексте межотраслевой преюдиции, полагают допустимым применение основанных на нормах гражданского законодательства и закрепленных в судебных решениях по гражданскому делу правополо-жений для раскрытия содержания уголовно-правовой нормы с бланкетной диспозицией в ситуации, когда стороны по гражданскому спору и в уголовному процессе тождественны друг другу [16, с. 75]. Соглашаясь с предложенным авторами подходом, отметим, что, на наш взгляд, допустимо применять не только право-положения, закрепленные в судебных актах, в условиях межотраслевой преюдиции, но и правоположения вне условий наличия преюдиции, т. е. не связанные с фак- турой конкретного уголовного дела. Сказанное находит подтверждение в судебной практике.
Так, А., будучи генеральным директором «ЧЗ «Электрощит», обвинялся в совершении преступления по ч. 2 ст. 195 УК РФ.
Исполняя функции генерального директора ООО «ЧЗ «Электрощит», в отношении которого арбитражным судом введена процедура наблюдения, в период данной процедуры при наличии требований ФНС России по уплате НДФЛ и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на сумму 3,69 млн руб., А. удовлетворил требования ООО «ТД «Волгаэлектросбыт» и ООО «Группа компаний «Эврика МК» на общую сумму 9,4 млн руб., причинив ущерб государству в размере 3,69 млн руб.
Сторона обвинения настаивала на том, что действия А. по приоритетному удовлетворению требований ООО «ТД «Волгаэлектросбыт» и ООО «Группа компаний «Эврика МК» противоречат положениям ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которой устанавливается очередность удовлетворения требований кредиторов, соответственно требования ФНС России относятся ко второй очереди кредиторов и должны удовлетворяться в приоритетном порядке относительно требований ООО «ТД «Волгаэлектросбыт» и ООО «Группа компаний «Эврика МК».
Довод стороны защиты о том, что ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неприменима, поскольку действия, направленные на удовлетворение требований ООО «ТД «Волгаэлектросбыт» и ООО «Группа компаний «Эврика МК» были совершены в период наблюдения, а не в период конкурсного управления, правовой режим которого предполагает применение ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Указанная статья расположена в Главе VII названного закона, положения которой регулируют общественные отношения по проведению процедуры конкурсного производства, а это, по мнению защиты, означает, что ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на неурегулированные положениями Главы VII общественные отношения, в том числе связанные с осуществлением процедуры наблюдения, и, соответственно, обвиняемый не обязан был действовать в соответствии с ней.
Приведенный защитой довод был отвергнут судом, который указал следующее: «Доводы защитника о том, что ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется лишь на конкурсное производство, не основаны на законе. … При добросовестном поведении руководителя ООО «ЧЗ «Электрощит» дебиторская задолженность ООО «Фирма Старко», возникшая на основании договора поставки от 27 ноября 2015 года № 68, должна была быть включена в конкурсную массу ООО «ЧЗ «Электрощит» и направлена на погашение требований кредиторов ООО «ЧЗ «Электрощит» в соответствии с очередностью, установленной ст. 134 Закона о банкротстве. Отступление от установленного Законом о банкротстве порядка погашения требований кредиторов допускается исключительно на основании соответствующего судебного акта арбитражного суда по ходатайству конкурсного управляющего (пункт 40.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1.
Таким образом, суд, руководствуясь правоположе-ниями, изложенными в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», пришел к выводу, что ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит применению в процедуре наблюдения. Т.е. суд конкретизировал норму ч. 2 ст. 195 УК РФ, уточнив признак неправомерности удовлетворения требования отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам.
Применение расширительных правоположений, закрепленных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и основанных на нормах законодательства о несостоятельности, позволило распространить положения ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на действия А., связанные с удовлетворением требований иных кредиторов и, как следствие, признать в этих действиях наличие регуляторной противоправности.
Отметим также, что суд в данном кейсе упустил одно из важных, на наш взгляд, звеньев аргументации касательно применимости ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Данное звено закреплено в п. 40 уже названного Пленума ВАС РФ и звучит следующим: «При применении названной нормы (п. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ — А. В.) судам необходимо иметь в виду, что она подлежит применению также и в иных процедурах банкротства при недостаточности имеющихся у должника денежных средств для удовлетворения всех требований по текущим платежам» 2. В таком случае наличие у А. права удовлетворять требования кредиторов в ином порядке только с разрешения арбитражного суда выглядит обоснованным.
Аналогичный пример. Индивидуальный предприниматель Ч., помимо прочего, обвинялся в совершении неправомерных действий при банкротстве, выразившихся в отчуждении имущества при наличии признаков банкротства, причинившем крупный ущерб (ч. 1 ст. 195 УК РФ).
Ч. полагал, что совершал действия, направленные на отчуждение автомобиля третьим лицам, в отсутствие признаков банкротства, ссылаясь на п. 1 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Таким образом, Ч. настаивал, что отсутствие признака недостаточности имущества по смыслу приведенной нормы исключает криминообразующий признак по ч. 1 ст. 195 УК РФ — обстановку («…при наличии признаков банкротства»).
Признавая правовую позицию Ч. несостоятельной, суд в качестве контрдоводов привел следующее:
«Из буквального толкования этой нормы следует, что признак недостаточности имущества является обязательным элементом применительно к гражданину независимо от того, имеет ли он статус индивидуального предпринимателя.
Однако в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» критерии, предусмотренные в п. 1 ст. 3 этого закона, применяются, если иное не установлено названным законом.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей регламентированы ст. 214–216 этого же закона. В частности, ст. 214 устанавливает, что основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Таким образом, из содержания ст. 214 следует, что признак неплатежеспособности является единственным основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом.
Следовательно, суд первой инстанции правильно указал, что при решении вопроса о наличии признаков банкротства индивидуального предпринимателя общее правило, предусмотренное п. 1 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», применению не подлежит.
Правильность такого толкования закона подтвердил Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, высказавший свою позицию по данному вопросу в постановлении от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей».
Из изложенного следует, что для установления в действиях индивидуального предпринимателя признаков банкротства не требуется, чтобы сумма его обя- зательств превышала стоимость принадлежащего ему имущества» 1.
В указанном кейсе суд, применяя ограничительное толкование положений п. 1 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительно ссылается на правоположения, закрепленные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей», которыми легализуется примененный в кейсе судом способ толкования.
Примеры обращения судов, рассматривающих уголовные дела по экономическим преступлениям, к пра-воположениям, основанным на нормах регуляторного законодательства, встречаются также в области уголовно-наказуемого нарушения положений антимонопольного 2 и налогового законодательства3.
Помимо конкретизирующих нормы регуляторного законодательства правоположений, суды, рассматривающие уголовные дела по экономическим преступлениям, для установления регуляторной противоправности используют правоположения, устраняющие пробелы в регуляторном законодательстве. Сказанное относится, в частности, к налоговым преступлениям.
Например, по одному из уголовных дел сторона защиты настаивала на том, что эксперт, производивший расчет суммы неуплаченных в бюджет налогов, избрал неправильный метод расчета. По мнению защиты, применению подлежал расчетный метод определения суммы неуплаченных налогов в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.
Суд отверг данные доводы защиты со ссылкой на правоположения, закрепленные в письме ФНС России от 22 августа 2014 г. № СА-4–7/16692 «О применении отдельных положений Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 года № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ», согласно которым расчетный метод, предусмотренный пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, не подлежит применению в случае установления налоговым органом факта отсутствия реальных хозяйственных операций в рамках исполнения спорных сделок, что как раз и было установлено в рамках уголовного дела 4.
Ни в ст. 31 НК РФ, ни в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2014 г. № 57 не содержится положений, ограничивающих применение расчетного метода определения суммы неуплаченных налогов в случае отсутствия реальных хозяйственных операций. Таким образом, правоположе-ния, содержащиеся в приведенном письме ФНС России, восполняют пробел в регулировании общественных отношений по поводу выбора метода определения суммы неуплаченных налогов, что, в свою очередь, влияет на определение размерных признаков в составах налоговых преступлений (ст. 198–199.4 УК РФ).
Включение в процесс применения норм экономического уголовного права правоположений, конкретизирующих и (или) дополняющих нормы регуляторного законодательства, связанных с уголовно-правовыми нормами, позволяет либо ограничить, либо расширить карательное воздействие экономического уголовного права с учетом сложившейся практики органов-регуляторов и судебных органов, осуществляющих гражданское, арбитражное и административное судопроизводство.
Еще одна особенность правоположений как части содержания регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве заключается в том, что продуцировать их могут не только судебные органы, но и юрисдикционные органы исполнительной власти, уполномоченные на разрешение споров.
На наш взгляд, субъекты продуцирования право-положений не сводятся исключительно к судебным органам. В настоящее время ряд органов-регуляторов обладают компетенцией на разрешение юридического спора и, как следствие, на формирование своих правопо-ложений. К таким органам относится, в частности, Федеральная антимонопольная служба России (далее — ФАС России), которая уполномочена рассматривать дела о нарушении антимонопольного законодательства 1, издавать разъяснения по вопросам применения антимонопольного законодательства, содержащие правоположения с правовой позицией ФАС России, а также осуществлять управление в сфере антимонопольного регулирования.
Так, Иркутский областной суд, отвергая довод стороны защиты, согласно которому уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ наступает лишь при учете размера отдельного дохода каждого из хозяйствующих субъектов, входящих в картель, указал, что согласно разъяснениям ФАС России от 28 июня 2010 года № 09/649 «Об определении ущерба и дохода от нарушений статей 10, 11, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» учету подлежит весь доход, который является криминообразующим признаком по ст. 178 УК РФ 2.
Еще одним примером обращения органов судебной системы к правоположениям органов исполнительной власти с целью установления регуляторной противоправности деяния является приговор Таганрогского городского суда Ростовской области. В приведенном судебном акте была установлена регуляторная противоправность деяния по ст. 199 УК РФ следующим образом: «… исследовав указанные факты в совокупности и взаимосвязи, установлено, что в представленных материалах содержатся обстоятельства, изложенные в ст. 54.1 НК РФ и Письме ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 НК РФ», которые свидетельствуют о получении ООО «СК Стройпартнеры» в результате взаимоотношений с подконтрольным взаимозависимым контрагентом ООО «ТПС» необоснованной налоговой выгоды посредством создания формального документооборота с ООО «ТПС» без фактического осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений».
Таким образом, по результатам камеральной налоговой проверки установлено, что в нарушение требований ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 173 НК РФ ООО «СК Стройпартнеры» неправомерно предъявлен к вычету НДС по взаимоотношениям с ООО «ТПС», что привело к неуплате (неполной уплате) НДС за 4 квартал 2020 года в общей сумме 4 141 182 руб., по срокам уплаты 25.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021»3.
В данном деле суд для конкретизации положений ст. 54.1 НК РФ использовал правоположения, содержащиеся в письме ФНС России от 10 марта 2021 г. № БВ-4– 7/3060 «О практике применения статьи 54.1 НК РФ».
Представленные примеры судебной практики свидетельствуют, что субъектами, продуцирующими правоположения, являются не только органы судебной власти, а также органы исполнительной власти, уполномоченные на разрешение споров по вопросам применения регуляторного законодательства, в частности, ФАС и ФНС России.
Заключение
Таким образом, под правоположениями юрисдикционных органов в экономическом уголовном праве нами понимаются издаваемые органами судебной или исполнительной власти на основе норм регуляторного законодательства правовые позиции, конкретизирующие нормы регуляторного законодательства либо устраняющие пробел в правовом регулировании.
Из этого следует, что содержание регуляторной противоправности в экономическом уголовном праве является двухкомпонентным. В него, с одной стороны, включены нормы регуляторного законодательства, обращение к которым при применении норм экономического уголовного права является обязательным от 6 марта 2023 г. по делу № 22-208/2023. URL: (дата обращения: 01.07.2025)
в любом случае и независимо от того, является ли норма особенной части экономического уголовного права бланкетной или не является таковой [6, с. 70]. А с другой стороны, содержание регуляторной противоправности составляют правоположения юрисдикционных органов.
Обращение к правоположениям юрисдикционных органов в процессе правоприменения по уголовным делам об экономических преступлениях позволит, во-первых, либо обоснованно привлечь виновное лицо к уго- ловной ответственности ввиду наличия регуляторной противоправности, либо обоснованно не привлекать лицо к уголовной ответственности ввиду отсутствия регуляторной противоправности. Во-вторых, учет пра-воположений юрисдикционных органов позволит избежать принятия противоречащих друг другу решений, когда в рамках уголовного права одно и то же деяние признается противоправным, а с точки зрения норм иной отрасли права — правомерным, что позволит сохранить единство правовой системы.