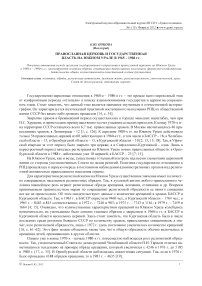Православная церковь и государственная власть на Южном Урале в 1965 - 1988 гг
Автор: Попова Ксения Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (15), 2012 года.
Бесплатный доступ
Показаны отношения между органами государственного управления и православной церковью на Южном Урале в 1960 - 1980 гг., анализируются основные обряды, совершаемые православным населением, финансово- хозяйственная деятельность общин, количественный и качественный состав духовенства
Политика, обряды, религиозная активность, духовная жизнь, религиозная жизнь, уполномоченный, храм, совет по делам религий, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/14821713
IDR: 14821713
Текст научной статьи Православная церковь и государственная власть на Южном Урале в 1965 - 1988 гг
Государственно-церковные отношения в 1960-е – 1980-е гг. – это прежде всего переходный этап от конфронтации периода «оттепели» к поиску взаимопонимания государства и церкви на современном этапе. Стоит заметить, что данный этап является наименее изученным в отечественной историографии. Он характеризуется вялотекущей практикой постепенного вытеснения РПЦ из общественной жизни СССР без каких-либо громких процессов [14, с. 34].
Закрытие храмов в брежневский период осуществлялось в гораздо меньших масштабах, чем при Н.С. Хрущеве, и происходило преимущественно за счет угасания сельских приходов. К концу 1970-х гг. на территории СССР оставалось всего 6,7 тыс. православных храмов. В Москве насчитывалось 46 православных храмов, в Ленинграде – 12 [1, с. 126]. К середине 1980-х гг. на Южном Урале действовало только 56 православных церквей из 60 действующих в 1960-е гг., в том числе в БАССР – 18, в Челябинской области – 15, в Оренбургской области – 13, в Курганской области – 10 [2; 13; 15; 18]. Так, в Уфимской епархии за этот период было закрыто три церкви, а в Свердловско-Курганской – одна. Лишь в перестроечный период началась регистрация на Южном Урале новых православных обществ: в Оренбургской области в 1988 г. действовало уже 18 церквей, в БАССР – 23 [7; 15].
На Южном Урале, как и везде, существовал тотальный контроль над всеми элементами церковной жизни со стороны уполномоченных Совета по делам религий. Политика государства по отношению к РПЦ проявлялась в первую очередь в постоянном наблюдении административных органов над религиозной активностью православного населения страны.
Для характеристики религиозной жизни на Южном Урале существенное значение имеет количество совершаемых населением религиозных обрядов. Так, в духовной жизни любого православного человека важнейшую роль играют религиозные обряды крещения, венчания, отпевания и др. Вопреки принимаемым правительством мерам по сокращению религиозной обрядности ее явного снижения все же не происходило. Об этом свидетельствуют данные о количестве крещений в храмах БАССР и Курганской области. Так, в 1963 г. в БАССР окрестили 9460 чел., в Курганской области – 1764 чел.; в 1965 г. – 8463 и 845 соответственно; в 1972 г. – 7246 и 903; в 1975 г. – 7743 и 1161; в 1979 г. – 7459 и 1664 [4; 15]. Очевидно, что количественные характеристики крещений на Южном Урале колебались незначительно, их уменьшение было связано главным образом с закрытием в 1960-е гг. в БАССР и Курганской области нескольких церквей. Здесь стоит заметить, что Курганская область была в числе последних среди регионов бывшего СССР по количеству храмов, православных священников, а значит, и по религиозной обрядности, лишь с 1972 г. здесь постепенно увеличилось количество крещений [16, с. 61–62]. Этот факт можно объяснить также тем, что в общую обрядность обычно включались и крещения детей, проживающих в других областях.
Однако уже в конце 1970-х – начале 1980-х гг. повсеместно наблюдался рост религиозной обрядности. Так, уполномоченный Совета по делам религий Челябинской области П.И. Тарасов отмечал наметившуюся тенденцию на примере обряда крещения, который увеличился с 4246 в 1976 г. до 5185 в 1980 г. [17, с. 35]. В Оренбургской области наблюдалась аналогичная ситуация. Так, если в 1976 г. было проведено 4188 обрядов крещения, то в 1981 г. – 4635 [19].
Среди православных треб наибольшее распространение получили обряды, связанные со смертью людей (отпевания очные, отпевания заочные, сорокоусты, обедни, панихиды и т.д.). Именно эти обряды имели постоянную тенденцию роста, т.к. для их выполнения необязательно личное присутствие на службе. Так, уполномоченный Совета по делам религий по Оренбургской области Г.Д. Василенко, объясняя быстрый рост поминальных обрядов в области, указывал на то, что верующие уже не считают обязательным посещать церковь, им достаточно попросить кого-то из знакомых заказать обряд, ведь главное, по их мнению, – помянуть родственников, выполнить долг перед ними. Исходя из этого, уполномоченный сделал вывод о деформации религиозного чувства у населения. На примере данных оренбургских соборов можно проследить резкий рост поминальных обрядов. Так, число заказных обеден увеличилось в 1,46 раз (с 13280 в 1969 г. до 19316 в 1973 г.); сорокоустов – в 1,52 (с 3716 до 5651); поминаний – в 1,62 (с 3624 до 5887) [8].
Косвенным показателем совершения треб являются сведения о церковных доходах, полученных от религиозных обрядов. Данные о доходах церквей от совершения религиозных обрядов составляют в Курганской области в 1966 г. – 50,4 тыс. руб. (22,3% общего дохода церкви при общем доходе в 226068 тыс. руб.); в 1969 г. – 77,2 тыс. руб. (24,95% при доходе в 309554 тыс. руб.); в 1978 г. – 119,7 тыс. руб. (25,3% при доходе в 473,2 тыс. руб.); в Оренбургской области в 1969 г. – 342,8 тыс. руб. (27,3% при доходе в 1256,6 тыс. руб.); в 1978 г. – 473,9 тыс. руб. (23,4% при доходе в 2022 тыс. руб.) [3; 9; 20]. Таким образом, доходы церквей южноуральского региона за счет совершения религиозных обрядов в основном росли стабильно. Церкви получали от исполнения треб примерно одну четвертую часть всех своих доходов.
Со стороны партийных органов финансовая жизнь епархий контролировалось «добровольными» отчислениями в различные общественные фонды. В первую очередь они поступали в Фонд Мира. Так, в Уфимской епархии эта сумма возросла с 105,5 тыс.руб. в 1966 г. до 304,2 тыс. руб. в 1988 г. [15]; в Оренбургской области в эти же годы – с 98, 6 тыс. руб. до 281,6 тыс. руб. [11; 21].
Государственные органы также полностью регламентировали деятельность духовенства. Сведения о зарегистрированных служителях культа регулярно подавались уполномоченными областей в Совет по делам религий. «Подорвать материальную базу церкви!» – главный лозунг партийно-советских функционеров 1960 – 1970-х гг. [16, c. 40]. Это означало открытый призыв к превращению священнослужителей в материально необеспеченных людей, что и стало одной из причин нехватки служителей культа. Из-за недостатка священников в целом по стране в 1960-е гг. не действовало 755 православных церквей. Примерно в стольких же церквях богослужения совершались лишь в большие религиозные праздники [2, с. 238]. Ухудшался и качественный состав духовенства. Около половины всех служителей культа в православии были лица старше 60 лет, 70% имели только низшее светское образование, 55% не имели никакого богословского образования [22].
На Южном Урале дело обстояло несколько лучше. В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг., несмотря на гонения со стороны властей, состав духовенства существенно омолодился. В религию пришли молодые люди, не испытавшие сталинских репрессий; они отличались более высокой общеобразовательной подготовкой, а многие имели к тому же и духовное образование [16, с. 41]. Так, в 1965 г. всего по Оренбургской области насчитывалось 30 зарегистрированных служителей культа, в том числе 19 священников, 8 дьяконов и 3 псаломщика. Из 27 священников и дьяконов почти половина имели возраст до 40 лет, причем 8 человек окончили духовные учебные заведения после 1945 г. По БАССР в 1967 г. также числилось 27 служителей культа, 10 из которых были младше 40 лет. В Курганской области в 1968 г. было зарегистрировано 12 священников, двое из которых были младше 40 лет, при этом 7 человек имели духовное образование [5; 23]. На 1 января 1989 г. в Оренбургской области из 41 зарегистрированного служителя культа 24 были младше 40 лет; в БАССР из 31 – 13; в Курганской области из 19 – 10 соответственно [6; 10]. Таким образом, к концу указанного периода прослеживается тенденция омоложения состава священнослужителей южноуральского региона.
Особенно тщательно уполномоченные Совета по делам религий изучали проповедническую деятельность духовенства, которая отражала его настроения. Стоит заметить, что проповедническая деятельность на Южном Урале какого-либо организованного начала не имела. Ряд священников переписывали проповеди из «Журнала Московской патриархии», а затем читали их прихожанам. Некоторые священники делали перевод старославянских текстов Евангелия на русский язык, читали их и считали проповедями [24].
В условиях государственного контроля священнослужителям приходилось приспосабливаться к изменившимся условиям. Так, большинство церковных идеологов проповедовали, что коммунистическая и религиозная нравственность идентичны, а разница состоит лишь в том, что религия, в отличие от коммунизма, обещает вознаграждение за добро не только в земной, но еще и в загробной жизни. Практически все священники в Оренбургской области оценивали новейшие открытия науки и техники как выдающееся достижение человеческого разума. При этом в полете космонавтов они никакого противоречия со Священным Писанием не усматривали. Интересным является тот факт, что священники позволяли себе даже критиковать методы атеистической работы, проводимой в стране. Так, священник Захаров из Медногорска в одной из бесед с уполномоченным заявил, что, по его мнению, с верующими нужно вести индивидуальную атеистическую работу, т.к. общие собрания и лекции являются малодейственными [25].
Таким образом, несмотря на полный контроль государства над всеми элементами церковной жизни к концу 1980-х гг. наблюдалось постепенное возрождение РПЦ: повсеместно прослеживался рост религиозной обрядности; стабилизировались доходы церквей; улучшился количественный и качественный состав духовенства. Фактически к концу указанного периода можно говорить об установившейся стабильности во взаимоотношениях государства и РПЦ и о появлении признаков внутреннего укрепления последней, а 1000-летие принятия христианства на Руси стало поводом для пересмотра всей системы государственно-церковных отношений в СССР.
Список литературы Православная церковь и государственная власть на Южном Урале в 1965 - 1988 гг
- Алов А.А., Владимиров Н.Г. Православие в России//Религиозная жизнь и культурное наследие России. М.: Ин-т наследия, 1995.
- Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 103. Л. 117.
- ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 65. Л. 10-11; Д.103. Л. 138-139.
- ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 56. Л. 103.; Д. 103. Л. 125.
- ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 60. Л. 77.
- ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 105. Л. 136.
- Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 617. Оп. 1. Д. 449. Л. 1.
- ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Д. 406. Л. 18-19.
- ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Д. 412. Л. 22.
- ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Д. 449. Л. 5.
- ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Д. 449. Л. 3.
- История религий в России: учебник. М.: Изд-во РАГС, 2004.
- Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. П-288. Оп. 204. Д. 473. Л. 3.
- Сергеев Ю.Н. Православная церковь и государственная власть в БАССР (1918 -1991 гг.): этапы взаимоотношений//Река времени: сб. ст. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2000. С. 31-35.
- Текущий архив Совета по делам религий при правительстве РБ. Статистические сведения и переписка по ним за 1976-1980 гг.
- Федченко М.Н. Русская православная церковь на территории Курганской области (1943 -начало 2000-х гг.). Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2006.
- Шакирова Э.З., Баннова В.И. Эволюция государственной политики в области этноконфессиональных отношений на примере Оренбургской, Челябинской, Курганской и Самарской областей (середина 1950-х -2005 гг.): учеб. пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009.
- Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 371. Оп. 33. Д. 80. Л. 41.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 40. Д. 58. Л. 37.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 40. Д. 58. Л. 33-34.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 37. Д. 80 Л. 8.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 38. Д. 67. Л. 32.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 33. Д. 128. Л. 5.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 38. Д. 67. Л. 14.
- ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 40. Д. 58. Л. 48-49.