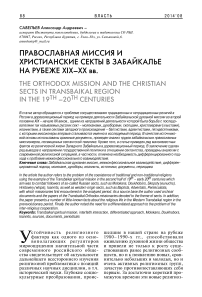Православная миссия и христианские секты в Забайкалье на рубеже XIX-XX вв
Автор: Савельев Александр Андреевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обращается к проблеме сосуществования традиционных и нетрадиционных религий в России в дореволюционный период на примере деятельности Забайкальской духовной миссии во второй половине XIX - начале XX веков., одним из направлений деятельности которой была борьба с последователями так называемых русских сект - молоканами, духоборами, скопцами, христоверами (хлыстами), иоаннитами, а также сектами западного происхождения - баптистами, адвентистами, пятидесятниками, с которыми миссионеры впервые сталкиваются именно в исследуемый период. В качестве источниковой основы использованы архивные документы, проведен анализ трудов забайкальских православных миссионеров, посвященных сектантской тематике. Кроме того, в статье приведен ряд малоизвестных фактов из религиозной жизни Западного Забайкалья в дореволюционный период. В заключение сделан ряд выводов о направлении государственной политики в отношении сектантства, проведены аналогии с современной религиозной ситуацией, в частности, отмечена необходимость дифференцированного подхода к проблеме межконфессионального взаимодействия.
Забайкальская духовная миссия, межконфессиональное взаимодействие, дифференцированный подход, молокане, духоборы, иоаниты, источники, документы, периодика
Короткий адрес: https://sciup.org/170167591
IDR: 170167591
Текст научной статьи Православная миссия и христианские секты в Забайкалье на рубеже XIX-XX вв
Устойчивость религиозного фактора как одного из основополагающих регуляторов мироощущения значительной части современного российского общества свидетельствует об актуальности дальнейшего всестороннего изучения религиозной проблематики с позиций различных научных дисциплин, в т.ч. исторической науки. Глубокие социокультурные преобразования, проис- шедшие в нашей стране на рубеже 1980–1990-х гг., способствовали оживлению духовной жизни общества и привели не только к росту существовавших ранее религиозных сообществ, но и к появлению новых, сравнительно небольших и молодых, но и очень активных религиозных групп, зачастую противопоставляющих себя первым. За достаточно короткий промежуток времени эти новые религиоз- ные образования стали неотъемлемой частью конфессиональной палитры современного российского общества.
Большую часть времени своего существования в пределах Российского государства (в досоветский и советский период) данные структуры как в обывательской, так и в научной среде обозначались в основном термином «секта». Причем этот термин не всегда использовался в негативной коннотации, а в научной среде применялся по причине отсутствия альтернативной терминологии 1 .
В свою очередь, значительные усилия для искоренения инакомыслия, в данном случае религиозного, традиционно предпринимало государство. Активная миссионерская работа в данном направлении проводилась Русской православной церковью (РПЦ), где, во-первых, обоснованно усматривали в распространении сектантских вероучений, в особенности зарубежных, угрозу национальной и культурной самобытности российского общества, а во-вторых, – прямую конкуренцию. Миссионерские структуры РПЦ, занимавшиеся обращением в православие инородцев и иноверцев, особую сложность видели в работе с сектантами. Так, в документах Забайкальской духовной миссии нет ни одного упоминания о перешедшем в православие последователе какой-либо секты.
В настоящей работе предпринимается попытка анализа деятельности Забайкальской духовной миссии в свете ее антисектантской работы в Забайкалье на рубеже XIX–XX вв. При этом ставится задача как можно более полно осветить источниковую базу по данному вопросу, привлечь труды исследователей, ранее обращавшихся к указанной проблематике, и на основе созданной таким образом ретроспективы рассмотреть особенно- сти современных взаимоотношений исторически доминирующих в нашей стране религий и нетрадиционных религиозных движений, что позволит выявить определенные закономерности в подходах государства и поддерживаемых им религиозных институтов к проблемам нетрадиционной религиозности.
Основным направлением деятельности духовной миссии в Забайкалье, направленной туда в 1681 г. по благословению патриарха Иоакима (Савелова), было обращение в православную веру коренного населения Забайкалья, исповедовавшего шаманизм и буддизм. Со второй половины XVIII в. в Забайкалье селятся первые старообрядцы, забота о возвращении которых в лоно Русской православной церкви была возложена на православную духовную миссию. Ввиду увеличения численности старообрядцев в 1879 г. в рамках миссии при Троицком Селенгинском монастыре была организована специальная «противорас-кольничья» миссия, первым начальником которой был назначен настоятель монастыря архимандрит Михаил (Козлов).
Первые немногочисленные последователи так называемых старорусских сект появляются на территории Западного Забайкалья в 1830-х гг. как следствие консервативной религиозной политики, проводимой императором Николаем I. К старорусским сектам ряд отечественных исследователей [Васильева 2007: 35] относят вышедших из официального православия молокан, духоборов, скопцов, хлыстов, субботников, а также несколько малочисленных групп, выделившихся из вышеозначенных сект. С началом функционирования Транссибирской железнодорожной магистрали в начале XX в. в Западное Забайкалье проникают представители новых для России сектантских 2 вероучений, возникших
2 Указанные религиозные движения отнесены к сектантству, поскольку в исследуемый период являлись для Забайкалья новым явлением и священнослужители не имели ясного представления о его происхождении, вероучительных особенностях и пр. (в отличие, например, от более привычного здесь лютеранства). В современном научном религиоведении данные религиозные направления относят к протестантизму.
ранее в Европе и США, – баптизма, евангелизма, адвентизма [Долотов 1930: 50]. Несмотря на то, что данные процессы не носили массовый и системный характер, они попадали в поле зрения властных и надзорных органов края. Кроме того, все религиозные новообразования, появляющиеся в Забайкалье, должны были представлять интерес для миссионеров Забайкальской духовной миссии.
Труды Забайкальской духовной миссии в основном содержатся в архивных фондах, значительная часть из них опубликована в церковной периодической печати, например в газетах «Иркутские епархиальные ведомости» (выходили с 1863 г.), «Забайкальские епархиальные ведомости» (выходили с 1900 г.), журналах «Православный благовестник», «Миссионер», хранящихся в основном в библиотечных фондах. Ценные сведения о противо-раскольнической деятельности миссии содержатся в изданном в г. Чите отдельной книгой «Отчете о состоянии Забайкальской духовной миссии за 1907 год».
Основной массив архивных документов по интересующей нас проблематике рассредоточен в архивах трех субъектов РФ – Государственном архиве Республики Бурятия (ГАРБ, ф . 262 «Селенгинский Троицкий монастырь», ф. 186 «Верхнеудинский Одигитриевский собор»), Государственном архиве Иркутской области (ГАИО, ф. 50 «Иркутская духовная консистория. Дела о старообрядцах и сектантах» [1725-1919]) и Государственном архиве Забайкальского края (ГАЗК, ф. 282 «Церкви Иркутской духовной консистории [1725–1894]», «Церкви Забайкальской духовной консистории [1894–1918]», ф. 8 «Забайкальская духовная консистория [1894–1918]», ф. 153 «Читинское духовное правление [1850–1894]». В этих фондах содержатся ежегодные отчеты миссионеров, статистические данные о числе лиц, принявших православие, их именные списки, годовые отчеты Забайкальской миссии за ряд лет, путевые дневники и записки миссионеров, сведения о состоянии раскола и деятельности сект, данные о мис- сионерской деятельности монастырей и др. Особый интерес представляет фонд Троицкого Селенгинского монастыря, при котором располагалась Забайкальская противораскольничья миссия, а также фонд Забайкальской духовной консистории.
При этом необходимо отметить, что информация по исследуемой проблематике, имеющая преимущественно статистический характер, также содержится в фондах органов местного самоуправления Забайкальской области (1851–1922 гг.), окружных полицейских управлений и др. При этом полицейские органы, в обязанности которых входил надзор за иноверцами, в т.ч. за сектантами, далеко не всегда фиксировали наличие на подконтрольной территории нежелательных для вышестоящего начальства сектантских элементов [Васильева 2007: 48]. Действительный поиск сектантов среди многочисленных толков и согласий местного старообрядчества требовал специальных знаний в данной области, которыми чиновники МВД обладали в меньшей степени, нежели православные миссионеры. Кроме того, среди старообрядцев, и особенно среди сектантов, было немало и тайных сектантов, для которых в периоды гонений было надежнее скрывать свою принадлежность к той или иной секте. Миссионеры противораскольничьей миссии, напротив, обладали самыми полными сведениями о межконфессиональной ситуации в подотчетном регионе и, в отличие от полицейских органов, как правило, отличали старообрядческие толки и согласия от сектантских вероучений.
Первые и, к сожалению, неполные сведения о сектантах, принадлежащие перу миссионера, мы встречаем в отчете о деятельности Забайкальской миссии за 1847 г. (ГАЗК). В нем упоминаются представители сект скопцов, молокан и духоборов, проживающие в с. Татаурово и в г. Нерчинске. Вместе с тем эти данные приводятся в документе без каких-либо подробностей об их деятельности, числе, сословной принадлежности и прочих дан-ных1. Следует отметить, что первым скопцом, ступившим, хоть и не по своей воле, на землю Забайкалья, стал соратник основателя секты Кондратия Селиванова Андрей Иванов, сосланный в 1772 г. за свои религиозные предпочтения на каторгу в Нерчинск.
Благочинный 5-го Сретенского благочиния Нерчинского уезда протоиерей Мелетий Прянишников в отчете за 1898 г. также упоминает факт выселения в административном порядке с территории своего благочиния двух последователей секты духоборов. Однако никакие подробности о данном событии и его участниках также не сообщаются 1 .
Наиболее важный документ, характеризующий обстановку с сектами в крае, принадлежит начальнику противораскольничьей миссии в 1884–1905 гг. и настоятелю Троицкого Селенгинского монастыря архимандриту Иринарху (Дмитриеву), внесшему большой вклад в распространение православной веры за Байкалом. Так, в своем отчете начальнику Забайкальской духовной миссии за 1891 г.2 Иринарх пишет: «Иркутская губерния не имела прежде ни раскольников, ни сектантов, пока не населили ее теми и другими из ссыльнопоселенцев. В Иркутской губернии и теперь мало раскольников, единицами расселенных по разным селениям без религиозного общения между собою. Только сектанты – субботники и духоборы, соединились вместе с тремя селениями небольшими общинами, состоящими из ссыльнопоселенцев и их потомков. В Забайкальской волости напротив нет сектантских общин, зато много старообрядцев, живущих большей частью в отдельных селениях». Таким образом, Иринарх говорит об отсутствии в Забайкалье организованных сектантских общин, что означает, что более в отчетах его миссии о них не будет сказано ни слова. Однако это не означает, что здесь не было периодически прибывающих сюда на поселение сектантов, которые ввиду своей малочисленности не оформлялись в общества. По данным, следующим из отчетов МВД, помимо проживающих в области скопцов, духоборов и молокан, в Забайкалье в 60-х гг. XIX в. были направлены несколько партий субботников, или иудействующих, численностью более 500 чел., расселившихся в Мухоршибирской и Тарбагатайской волостях Верхнеудинского округа.
К началу ХХ в. под влиянием происходивших в обществе общественнополитических процессов государство санкционирует некоторую либерализацию законодательства в области межконфессиональных отношений. Сложившаяся ситуация благотворно влияет на распространение в России инославных вероисповеданий, что характерно и для региона Западного Забайкалья. В данном ключе необходимо отметить, что в этот период постепенно улучшается транспортная система России и, в частности, Сибири. Так, начавшая свою работу в начале ХХ в. Транссибирская железнодорожная магистраль уже на стадии своего строительства способствует проникновению в Сибирь и Забайкалье представителей новых религиозных учений, возникших в Европе и США, – баптизма, евангелизма, адвентизма. Реакция Русской православной церкви на указанные процессы была однозначной. В 1906 г. на миссионерском съезде в г. Чите духовенством была озвучена необходимость противостояния данным учениям как «вреднейшим» [Отчет о состоянии … 1908: 34].
Интересные данные встречаются в рапорте, направленном епископом Забайкальским и Нерчинским Иоанном (Смирновым) в Священный синод в 1915 г.: «В Чите и по линии железной дороги в последние 4 года стало распространяться сектантство: баптизм, адвентизм, штундизм [пятидесятничество], иоаннитство. Священники и миссионеры во главе с епархиальной властью принимают все меры пастырского воздействия для борьбы с сектантством…» 3 Таким образом, немногочисленные представители новых религиозных движений беспокоили епархиальное начальство гораздо больше, чем «русские»
сектанты, что объясняется, по всей видимости, активными формами проповеди у представителей указанных движений, не свойственными православным миссионерам.
По всей видимости, активность представителей прибывших с Запада конкурирующих религиозных структур также способствовала введению в Забайкальской епархии специальной должности миссионера по противо-сектантской деятельности, при котором имелся помощник. Для более эффективного противостояния распространению сектантства миссионеры стремились узнать как можно больше об особенностях их учений, обрядах, сторонах бытовой жизни сектантов.
В 1913 г. помощник миссионера по противосектантской деятельности диакон Илия Иванов составил отчет, в котором изложил результаты своего расследования деятельности секты хлыстов-киселевцев. В отчете им отмечалось: «…учение этой секты представляет из себя странную смесь христианства со многими ересями, причем оно до того туманно, что невозможно установить точную его формулировку» 1. Представители этой секты обожествляли личность протоиерея Иоанна Сергиева (Кронштадтского), считая его воплотившимся «Богом», также превозносили некую Матрону Киселеву, которую называли «Богородицей» и приписывали ей дар предвидения. Из отчета далее следует: «…привлекая к себе именем досточтимого кронштадтского пастыря, деятели этой секты путем обмана обирали простодушных людей, не гнушаясь мошенническими проделками, выманивали у них даже их последние средства к существованию. Хлысты-киселевцы считают законное сожительство супругов грехом и поощряют т.н. “духовное” супружество, которое, по сути, представляло собой совместное общежитие мужчин и женщин, ведущее к распутству»2. Отмечается также, что сектанты в разговорах с людьми всячески подчеркивали, что ведут строгую и праведную жизнь. Они не были замечены в употреблении вина, курении, истово молились, соблюдали посты. По этой причине православные люди относились к ним с уважением и с удовольствием слушали их беседы.
Свои идеи и литературу хлысты-киселевцы, по наблюдениям миссионера, распространяли через специальных проповедников, которые под видом странников, «людей божиих» переходили из одного населенного пункта в другой. «Они учили о скором суде Божием, прельщая простодушных распродавать свое имущество и забирали себе их деньги», – пишет диакон Илия. Почитание о. Иоанна Кронштадтского, а также ряд других особенностей вероучения указывают на возможную связь описываемых миссионером хлыстов-киселевцев с сектой иоаннитов, пребывавших в горах Хамар-Дабана с 1910-х гг. вплоть до начала 1940-х гг. Более 20 лет посвятил изучению иоаннитов известный краевед А.В. Тиваненко [Тиваненко 2010].
В документах Забайкальской миссии нет ни одного упоминания о крещении бывшего последователя какой-либо из бытовавших в Забайкалье сект. Справедливо было бы полагать, что затрата сил и средств миссии на немногочисленных и разрозненных сектантов при наличии огромного числа «инородцев» и «раскольников», а также при нехватке квалифицированных миссионеров до появления сект западного происхождения считалась в тот период нецелесообразной. В первые же годы XX в. перед Забайкальской миссией, помимо прочих, встали задачи по глубокому изучению деятельности распространившихся в Забайкалье новых религиозных учений (баптизм, адвентизм, пятидесятничество (штундизм), иоан-нитство), которые по причине ведения активной проповеднической деятельности, направленной на привлечение как можно большего числа последователей в короткие сроки, делались соперниками РПЦ.
Таким образом, анализ имеющихся в нашем распоряжении источников в первую очередь свидетельствует о том, что сколько-нибудь заметного влияния на конфессиональную ситуацию в регионе представители христианских сект в исследуемый период не оказывали, причем данное утверждение применимо и к ситуации после 1917 г. Противоположная ситуация складывалась в Иркутской и Якутской губерниях. В отчетах о состоянии Иркутской духовной миссии, печатавшихся в «Иркутских епархиальных ведомостях», мы встречаем данные об оформившихся общинах молокан, духоборов и субботников, проживавших на территории Иркутской губернии, а также сведения о проезде через Иркутск к месту ссылки в Якутскую губернию больших партий скопцов и духоборов (в Якутии, к примеру, только скопцы основали 12 поселений).
Появление последователей протестантских религиозных структур в регионе, по всей видимости, носило случайный характер и никак не выражалось потребностью их миссионерства среди местного населения. Для Западного Забайкалья было характерно присутствие здесь очень небольшого числа представителей как «русских сект», не оформлявшихся в общества, так и отдельных представителей зарубежных религиозных учений.
Смена государственной, а вместе с ней и религиозной парадигмы после 1917 г. сделала невозможным дальнейшее осуществление православной миссии в России. На длительное время РПЦ была поставлена государством в один ряд с теми ранее «нежелательными» и «вреднейшими» религиозными структурами, которым в еще недавнем времени она противостояла при поддержке государственных институтов.
В настоящее время, в период религиозного «ренессанса», декларируемые властью принципы свободы совести формально сводят миссионерскую деятельность Русской православной церкви к одной из ее внутренних функций, обусловленных необходимостью сдерживания активной деятельности многочисленных религиозных новообразований, подчас имеющих деструктивный характер. При этом, по словам православных религиозных лидеров, основной причиной необходимости возрождения и укрепления духовной миссии РПЦ является не только стремительное распространение новых религиозных культов или сект, в т.ч. использующих элементы христианской догматики, но и сложное духовно-нравственное состояние современного общества.
На наш взгляд, стремление исторически доминирующих религий вытеснить из конфессионального пространства канонической территории конкурирующие инокультурные, а подчас откровенно деструктивные религиозные новообразования представляется вполне естественным. Более того, по мнению ряда исследователей, государство сегодня не должно отпускать межконфессиональные взаимоотношения в плоскость спонтанной саморегуляции и неуправляемого мировоззренческого плюрализма, сводя свою роль в межконфессиональном пространстве к минимуму [Курачев 2009].
Указанные вопросы входят сегодня в предмет научной дискуссии наряду с вопросами о роли и месте нетрадиционных религий в нашей стране, а также о необходимости регуляции процессов их распространения на государственном уровне. В настоящее время таким регулятором могут быть, наряду с нормотворческими инициативами, миссионерские ресурсы крупнейших традиционных конфессий, но теперь уже не только православия. При этом, на наш взгляд, следует учитывать богатый церковномиссионерский опыт досоветского периода. Однако как в процессе усовершенствования нормативноправовой базы, так и в процессе укрепления миссионерского потенциала традиционных конфессий следует, прежде всего, руководствоваться принципом свободы совести.