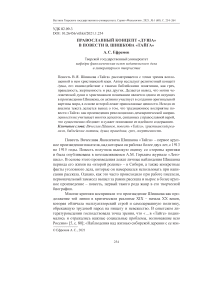Православный концепт "душа" в повести В. Шишкова "Тайга"
Автор: Ефремов Арсений Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Повесть В.Я. Шишкова «Тайга» рассматривается с точки зрения воплощенной в нем христианской идеи. Автор исследует религиозный концепт душа , его взаимодействие с такими библейскими понятиями, как грех, праведность, жертвенность и ряд других. Делается вывод, что мотив человеческой души в христианском понимании является одним из ведущих в произведении Шишкова, он активно участвует в создании оригинальной картины мира, в основе которой лежат православные ценности. Исходя из анализа текста делается вывод о том, что традиционное восприятие повести «Тайга» как произведения революционно-демократической направленности не учитывает многих аспектов, связанных с православной верой, что существенно обедняет и сужает понимание ее идейного содержания.
Вячеслав шишков, повесть
Короткий адрес: https://sciup.org/146282275
IDR: 146282275 | УДК: 82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.254
Текст научной статьи Православный концепт "душа" в повести В. Шишкова "Тайга"
Повесть Вячеслава Яковлевича Шишкова «Тайга» – первое крупное произведение писателя, над которым он работал более двух лет, с 1913 по 1915 годы. Повесть получила высокую оценку со стороны критики и была опубликована в возглавлявшемся А.М. Горьким журнале «Летопись». В основе этого произведения лежат личные наблюдения Шишкова периода его жизни на «второй родине» – в Сибири, а также конкретные факты уголовного дела, которые он намеревался использовать при написании рассказа. Однако, как это часто происходило при работе писателя, первоначальный замысел вышел за рамки рассказа и вырос в более крупное произведение – повесть, первый такого рода жанр в его творческой биографии.
Многие критики восприняли это произведение Шишкова как продолжение той линии в критическом реализме ХIХ – начала ХХ веков, которая обличала эксплуататорский строй и самодержавную политику, обрекавшую трудовой народ на нищету и невежество. В советском литературоведении господствовала точка зрения, что «…в «Тайге» поднимались и отражались важные социальные проблемы, волновавшие всю Россию» [5, с. 80]; «Наблюдения над жизнью сибирской деревни с ее кон
довым бытом, социальным неравенством, собственническими тенденциями Шишков обобщил в повести “Тайга”» [2, с. 734]; «Во всем строе “Тайги” заметно, что она была рождена предреволюционным временем и революцию приближала» [1, с. 509]. Сам автор не возражал против такой трактовки. На наш взгляд, для этого у писателя были весьма серьезные причины: говорить о реальном религиозном содержании произведения в революционную эпоху было опасно (вспомним, какой ожесточенной критике подверглось увлечение Максимом Горьким богостроительством, да и самого Шишкова резко критиковали за религиозные мотивы в романе «Ватага»).
Новое прочтение повести «Тайга», как и большинства других произведений Вячеслава Шишкова, началось на рубеже ХХ–ХХI вв. Отказавшись от трактовки творчества писателя только как представителя социалистического реализма, критики стали обращать внимание на те особенности его таланта, которые раньше либо не замечались, либо попросту игнорировались, как не соответствующие критериям господствующего литературного метода. Наиболее продуктивным современным направлением в научном переосмыслении и изучении творческого наследия писателя, на наш взгляд, является подход к нему с позиций христианского реализма, который активно развивается М. М. Дунаевым, И. А. Есауловым, В. Н. Захаровым, А. М. Любомудровым, В. А. Редькиным, А. П. Черниковым и другими исследователями. Результаты этих работ опубликованы в монографии В. А. Редькина [9] и в коллективной монографии [8], а также в ряде научных статей. Опираясь на них, мы предприняли попытку проанализировать повесть Вячеслава Шишкова «Тайга» как произведение христианского реализма, которое, на наш взгляд, вполне соответствует определению, данному И. А. Есауловым: «“Критический реализм”– по своей сущности – акцентирует критическую сторону в творчестве русских писателей. Христианский же реализм совершенно не отрицает этот момент, но не подобное отрицание является доминантой творчества русских классиков» [4].
В повести «Тайга» Вячеслав Шишков ставит серьезнейшие нравственно-философские вопросы о жизни и смерти, о добре и зле, правде и кривде, грехе и праведности. Эти темы станут магистральными на протяжении всей литературной деятельности писателя и будут раскрываться с христианских, православных позиций.
Христианская парадигма повести «Тайга» заявлена уже в самом начале, на ее библейский апокалиптический подтекст непосредственно указывает эпиграф произведения – слова из Священного Писания: «И тогда небеса с шумом прейдут, в стихии же, сжигаемы, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят… Но мы нового небеси и новой земли чаем, где правда живет» (2 Пет 3: 10, 13). И далее писатель будет постоянно обращаться к таким христианским понятиям, как душа, грех, покаяние, праведность, жертвенность и т. п. В этом ряду религиозный концепт душа является основополагающим, поскольку убежденность в существовании души служит несомненным доказательством подлинности веры. По словам И.А. Ильина, «душа как средоточие важнейших вопросов сердца для русского общения имеет совершенно особое значение» [6, с. 400].
Слово душа часто встречается в художественных и публицистических текстах, активно используется в живой разговорной речи. Очевидно, что не все случаи его употребления связаны с христианской верой, наполнены религиозным содержанием и подразумевают душу именно в библейском смысле. Очень часто под душой понимают внутренний мир человека, говорят о ее богатстве или бедности, наделяют различными эпитетами. Однако эти метафорические выражения указывают на нечто условное, не существующее на самом деле, в то время как в христианстве (и в некоторых других религиях) душа – сущность вполне реальная, она живёт в каждом человеке независимо от его веры в нее. Без представления о бессмертной душе не мыслится христианская картина мира: «Вера в бытие Божие тесно связана с верой в бытие собственной души как части мира духовного» [10].
По христианской вере, душа дается при рождении свыше, и главная задача в земной жизни человека – сберечь свою душу, поскольку она, в отличие от материального, физического тела, бессмертна, и именно она предстанет перед последним Страшным судом. Тема человеческой души, ее гибели или спасения, прослеживается во многих произведениях Вячеслава Шишкова. В повести «Тайга» вера-неверие в существование у человека души является важным показателем, говорящем об отношении к христианским ценностям. Герои неверующие, грешники, отрицают, что у человека есть бессмертная душа, относятся к ней с насмешкой.
В творчестве Шишкова важное место занимает борьба идей, писатель не только повествует, описывает события, но очень часто включает в сюжеты своих произведений полемику, иногда скрытую в идейных противостояниях персонажей, а иногда его герои ведут открытые споры, отстаивают свою точку зрения. Эта особенность творческого метода Шишкова заметна уже в ранней повести «Тайга», где автор не просто упоминает значимые христианские понятия: правда, грех, душа, покаяние и др., – но и делает их предметом споров между героями. Особенно ярко это выражено в спорах о душе. Главная полемика разворачивается между набожным Антоном и его спутниками – бродягами, бывшими каторжниками. Рассказывая о своей горестной жизни, Антон говорит о ведущей его душе: «“Ах ты, окаянная душа, – сам себе шепчу.– Куда ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня…”». «А души-то и не бывает» [11, с. 39],– возражает Антону Ванька Свистопляс. Другой бродяга, «убивец» Лехман, утверждает: «В нас души, Антон, нет… В нас душина…» [Там же, с. 140]. Он рассказывает: «Я как-то встретил в тайге, два шкелета валяются: медвежачий да человечий… А возле них две змеи вьются… Может, это и есть души? А? Ну, я их придавил… Ха-ха…». Цинично смеется над верой в существование души вор-бродяга Тюля: «Выди, душенька, из брюшенька!» [Там же].
Тем не менее независимо от того, верит ли сам человек в существовании души или нет, авторская позиция однозначна: душа есть у всех, и, как бы человек ни пытался отрицать эту истину, рано или поздно он ее прозревает. Каторжники, с которыми странствует Антон, заявляют, что не верят в Бога, не верят в бессмертную душу, не знают молитв и посмеиваются над богомольцем. Но даже они видят в нем человека, к которому можно обратиться с последним желанием, как это делает Ванька Свистопляс: «Вот ты бы поучил меня, как молиться-то… Надо бы… А то я все матерком да матерком…» [Там же, с. 128]. И не молитва ли Антона помогает Ваньке не разделить судьбу убитых Лехмана и Тюри, спасает его от неминучей расправы? И нет ли в этом отголоска библейского сказания про Христа и разбойника, о котором говорится в Евангелии от Луки: «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23: 40–43).
Сакральные чувства пробуждаются у героев Шишкова в минуты смертельной опасности, на грани жизни и смерти, и тогда даже самые закоренелые преступники просят, чтобы о них помолились, спасли их душу: «Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело» [Там же, с. 129]; «Антон <…> долго крестился и шептал молитву. Полегчало у Лехмана на душе, лег он в свой угол и весь насторожился, стараясь вникнуть в слова молитвы. …Они резко впивались в душу Лехмана и куда-то ее звали. <…> Слышит Лехман: все дрожит внутри. Чувствует: слезы просятся» [Там же, с. 141]. Лехман просит: «Антон!.. Хоша я никаких богов не признаю… Какой Бог? Ну, какой Бог? Я не верю… Одначе положи на упокой моей души, за Петра, земной поклон…» [Там же].
Шишков показывает, что даже у самых закоренелых преступников, убийц, воров и разбойников, не верящих ни в бессмертную душу, ни во всемогущего Бога, который все видит и знает, есть душа, а значит, есть надежда на спасение. Это является убедительным доказательством, что зло не всесильно, что на смену тьме всегда приходит свет. И потому стихия божественного света, пробуждающая совесть и согревающая души, – это и есть тот «луч света», который не заметила или не захотела заметить советская критика: «Солнце встало. Весь мир светом наполнился. <…> Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались сраженные светом остатки ночных сил» [Там же, с. 61]. Не случайно на фоне природы писатель акцентирует внимание на единственной детали, созданной руками человека, и это – крест на часовне, символ христианства, свидетельство присутствия в мире Господа, на что явно указывает белый голубь, символ Духа Святого: «…и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь» (Лк 3: 21–22). Шишков пишет: «Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услыхать, но всяк чувствует» [Там же, с. 60]. Однако чтобы почувствовать это, надо самому иметь душу и веру: «Солнца еще нет, но и слепой, настороживши душу, не ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело» [Там же]; «У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку» [Там же, с. 122]; «Душа Антона обнажилась, утончился слух ее. Осеняет себя Антон в мыслях широким крестом… “Господи, Господи…” – и, молитвенно замерев, ждет» [Там же, с. 139].
Сохранить чистоту и свет своей души невозможно без веры. Недостаточная вера, полуверие ослабляет душу, делает ее доступной силам зла, зависимой от внешних обстоятельств, подверженной греху. О слабости веры жителей Кедровки писатель говорит уже в самом начале повествования: «Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук <…> никого знать не хотят – ни бога, ни черта. <…> Но и старики и старухи за богом следили плохо». Свою жизнь мужики ставят в зависимость не от божественных сил, а от земных. В неурожайные годы у кедровцев «вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее…» [Там же, с. 20]. И наоборот: «уродится хлеб, удастся пушной промысел – светло на душе, отрадно. Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению…» [Там же, с. 22].
Кедровцы поклоняются темной тайге (не случайно крестный ход у них завершается у трех древних лиственниц – олицетворении языческих предрассудков); в них нет твердой, искренней и осознанной внутренней веры, поэтому «…всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом, – подошел черт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом» [Там же, с. 20]. Шишковский контраст между Богом и дьяволом с христианских позиций отражает борьбу сил добра и зла, тот антагонизм, про который очень точно сказал Ф.М. Достоевский: «…дья-вол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [3, с. 118].
Для творческой манеры Вячеслава Шишкова, как отмечает В. А. Редькин, характерно обращение к миру запредельному: «У В. Я. Шишкова очень сильно в повествовании иррациональное нача- ло. Элементы научно не познанного, мистического постоянно возникают в его рассказах и повестях, причинно-следственные связи нарушаются, прерываются и искажаются» [9, с. 50]. Это относится и к изображению души – категории нематериальной. Именно с помощью обращения к ирреальному, снам и видениям, писателю удается убедительно показать существование иного, скрытого от человека мира.
Как напряженную борьбу дьявола с Богом подробно показывает Шишков внутренние, душевные метания солдатки Дарьи. Она постоянно колеблется, не может решиться сказать горькую правду, признаться в своем грехе – и все эти переживания происходят в ее душе, ее душа является полем, на котором сталкиваются темные и светлые силы. Причиной ее душевного потрясения стала смерть купца Бородулина, у которого Феденька с ее помощью украл деньги: «Что-то закачалось в душе ее, охнуло и порвалось» [11, с. 131]. В видениях она представляет, как будет каяться в своих прегрешениях, как «…проклянет ворищу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет – примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдет» [Там же, с. 132]. Однако в благие намерения героини вмешиваются черные силы зла, и, чтобы показать это, Шишков вводит элементы мистики, запредельного, стирает грань между реальностью и видением: «Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. <…> Даша похолодела. “К добру или к худу?” – опять тайно спросила себя и почувствовала, как черное берет в ней верх». Даша хочет «не видеть, не слышать, прихлопнуть черное», ей «стало <…> жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли. <…> Но черное выше подымается, не дает покоя, душит Дарью». Черное предстает в образе вора Феденьки, который воспринимается как воплощение дьявольских сил: «…это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана!» Даша сопротивляется всеми силами, раскаянием гонит прочь темноту из души, «сама себе сделала приговор: “Да, я – убийца… я подлая… я тварь”. И как призналась себе, утвердила в сердце признание, точно нагишом перед народом встала: “Потаскуха… тварь…”». В поисках поддержки Даша обращается к помощи небесных сил и получает нужный ответ: «Мечется Дарья, ломая в потемках руки: “Матушка… заступница…” – и слышит: “Кайся, полегчает”» [Там же, с. 133]. Правильный выбор сделан, свет победил тьму, Дарья получает душевную свободу, она «бежит не чуя ног: радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли… Хорошо, свободно» [Там же, с. 134]. Но злые силы не сдаются: «Воздух в избе вдруг наполнился злобой. И пламя покаяния в Дашиной душе погасло. <…> Иной стала Даша, прежней, назимовской». Она сама стала подобной «во-рищу Феденьке»: «Сатано… сгинь, лукавая сатано… Тьфу!» Даже природа резко меняется, символизируя падение Даши: «Звезда покатилась по небу, вспыхнула и осияла сумрак. …И уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит: “Дура… эх ты, дура!..”» [Там же, с. 135].
Душевную борьбу, происходящие с Дарьей метаморфозы Шишков рисует в христианских понятиях, использует библейскую символику, прямо говорит о вмешательстве сатанинских сил, то есть о том, о чем писали Ф. М. Достоевский, И. С. Шмелев и другие писатели православной направленности. Итог борьбы, победу темных сил над светлыми, продолжает гоголевскую традицию искушением золотом: «Враз все запело внутри и захохотало, все приникло, все покорилось в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: “Бери!.. Все твое…”» [Там же, с. 135].
Но не только о погибших душах пишет Шишков в повести «Тайга». Шишковская концепция мира, воплощенная во многих произведениях, несмотря на темные стороны, не беспросветно черна, в ней всегда есть светлый «клочок неба», то, что дает надежду на лучшее, помогает усмирить силы зла. Однако это светлое, оптимистическое нужно уметь увидеть, понять, прочувствовать. Шишков далек от оптимизма, свойственного социалистическому реализму, от веры, что добро всегда побеждает зло и правда всегда торжествует. Эта позиция вызывала неприятие у советских критиков. Так, например, Георгий Марков пишет: «В его произведениях, особенно первого периода творчества, произвол тьмы настолько велик, что он кажется непоколебимым, как горный хребет. Оттого, что в некоторых из них нет и намека на луч света, при чтении испытываешь чувство безысходности и тоски» [7, с. 10]. Может быть, это так, если подходить к Шишкову как к представителю критического или социалистического реализма. Однако восприятие даже самых мрачных произведений писателя изменится, если судить о них с позиций православия. Изображая мир, погрязший в грехе, Шишков не абсолютизирует зло, не возводит его в господствующую над всеми силу. Он следует христианской истине, что мир держится на праведниках и существует, пока есть праведники. Мотив праведничества прослеживается во многих его произведениях. Праведник – это и есть тот самый «луч света», который так и не увидели многие советские критики.
Смысл праведничества у Шишкова заключается в спасении не только и не столько своей собственной, индивидуальной души, хотя и это очень важно. Следуя православной традиции, писатель подлинную праведность понимает как духовное служение людям.
В повести «Тайга» конфликт между спасением собственной души и жертвой ради общественного блага Шишков раскрывает на примере Устина. «Старик Устин, усердный Господу» [11, с. 61], пытается образ- умить односельчан, забывших Божьи заповеди и собирающихся совершить тяжкий грех – тайком, без суда, по оговору убить странников-бродяг, считая их виновными в преступлениях, которые они не совершали. Однако его проповедь добра и милосердия остается без ответа, и тогда он, не желая участвовать в общем грехе, ради спасения своей души решает покинуть родную деревню, оставить односельчан на произвол судьбы: «А не послушают моего гласа – уйду… Души же своей не омрачу и не опачкаю…» [Там же, с. 145]; «Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас» [Там же, с. 174]; «Жаль мне вас… Вот как жаль… А уйду… Прощай… робята…– Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца.– С вами мне не жить… Горько мне с вами… Я в тайгу уйду… Я к зверям уйду…». Свое непростое решение Устин принимает по велению души: «Душа требовает… Не держите меня… Душа в лес зовет… Со зверьем легче…» [Там же, с. 175].
Библейская и следующая ей литературная традиции часто используют мотив изгнания праведников и пророков, преследуемых за слова правды. Эта участь постигла и Устина: «“Эй ты, черт плешатый! – донеслось до него пьяное слово. – Ну и проваливай к дьяволу…” Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, сплеча, выругался» [Там же, с. 176].
С уходом Устина Кедровка осиротела, лишилась единственного праведника: «Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик! Кто за деревню будет Богу ответ держать?» [Там же, с. 167].
Устин оставил жителей деревни в самый трагический, самый сложный момент, именно тогда, когда им особенно нужна было Божья помощь и поддержка, чтобы они, темные и заблудшие грешники, раскаялись, разогнали тьму в своих душах, не дали силам зла окончательно завладеть ими.
Уход Устина от мира, от мужиков нарушил миропорядок: став отшельником, он видит видение и слышит осуждающий его голос: «Он ушел. И от тебя ушел и от мира ушел, он – черт» [Там же, с. 182]. Как знак свыше воспринимает Устин грозу, видя в ней наказание за свой грех: «Согрешил… мужиков в беде бросил… Возворочусь. <…> “Согрешил, согрешил!” – ликует темный рев тайги и, настегивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства». И не случайно смерть праведника Устина изображена как всемирная катастрофа; она оборачивается апокалипсисом, гибелью в огне тайги и деревни, ибо исчезла нить, связывающая земное и небесное: «Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса. Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы и предостерегающе замолкла. Испугалась тайга грозы небесной» [Там же, с. 183].
Мотив праведничества и вопрос о существовании души в творчестве Вячеслава Шишкова тесно связан с темой жертвенности, одной из сквозных во многих его произведениях. При ее раскрытии писатель исходит из библейского постулата: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто погубит душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Лк 9: 27). Во многих случаях тема жертвенности не заявлена прямо, а представлена на уровне сюжета, в действии, мыслях и поступках героев. О том, что проблема жертвенности решается Шишковым не с позиций революционного подвига и ницшеанского сверхчеловека, а как основанная на христианских заповедях, красноречиво говорится в повести «Пурга»: «Это в евангелии Христос сказал: “Кто душу свою полагает за други своя…”» [12, с. 483]; «Христос призывает жертвовать собой» [Там же]. Однако способностью к самопожертвованию во имя других обладают не все люди, а только исключительные по силе своего характера. В трактовке Шишкова ведущую роль в этом играет православная вера. Писатель это свойство человеческой души – готовность жертвовать собой ради ближнего – считает неотъемлемым качеством истинно верующего православного русского человека, чьи образы воплощены в таких его произведениях, как «Пейпус-озеро», «Алые сугробы», «Пурга», «Странники» и ряде других.
В повести «Тайга» человеком, добровольно принявшим решение одному ответить за каторжников, становится бродяга Антон. Сам он невинно пострадал за чужие грехи и преступления, его предали самые близкие люди. Выбор Антона – это глубоко прочувствованный, осознанный выбор искренне верующего православного человека: «Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. <…> Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить…» [11, с. 94].
В диалоге Антона и Лехмана Шишков выявляет две позиции, два понимания жертвенности. Предлагая Антону взять на себя чужую вину, Лехман прибегает к сугубо земным доводам, к понятиям о целесообразности: они люди старые, больные, сильно избитые: «Тебе все одно не жить… И мне не жить… Вот Ваньку с Тюлей жаль: может, отведем…» [Там же, с. 137]. Поэтому и сам Лехман не дорожит своей окаянной жизнью: «Ведь у меня, Антон, привязки к земле нету… Я один, все равно как горелый пень в чистом поле… Ведь я старик… Будет, помаялся…» [Там же, с. 138].
Верующий же Антон исходит из понятия духовного подвига, из своего внутреннего православного убеждения, из чувства христианского долга перед товарищами по несчастью: «Антон тихо утешал: “Я все приму… Не печалуйтесь…”» [Там же, с. 142]; «Я сказал, что я… Все приму… Понимаешь? Я!..» [Там же, с. 138].
Православная традиция прослеживается также в том, что праведники Шишкова жертвуют собой не ради людей, с точки зрения земной справедливости, достойных столь большой жертвы. Безвинный Антон принимает на себя вину страшных грешников, преступников: «В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул» [Там же, с. 119]. Ванька Свистопляс с другими каторжниками «в остроге четверых надзирателей кончили», «троих-то сразу кончили, головы о стену разбили», а четвертому устроили лютую казнь: «“Уж больно они мытарили нас, прямо зверье…”» [Там же, с. 126–127]. Тюля, «стараясь перекричать страх души, каялся: “Я никого не убивал, а только что я – злодей, я – ворина, я гнус…”» [Там же, с. 142].
Таким образом, христианский концепт душа в повести Вячеслава Шишкова «Тайга» является одним из ведущих. Он непосредственно связан с православной верой; в его репрезентации писатель опирается на традиции Святого Писания, житийной литературы и творчества русских писателей. Игнорирование христианского подтекста повести ведет к ложным выводам, существенно обедняет идейное содержание произведения. Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод об обоснованности точки зрения на повесть Шишкова «Тайга» как на произведение христианского реализма.
Tver State University
Об авторе:
ЕФРЕМОВ Арсений Сергеевич – аспирант кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: arseniyy.efremov@ rambler.ru.
About the author:
Список литературы Православный концепт "душа" в повести В. Шишкова "Тайга"
- Благов Д. Послесловие // Шишков В.Я. Алые сугробы : Повести и рассказы. Л.: Худож. лит., 1990.
- Борисова В. А. Шишков В. Я. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М. : Сов. энцикл., 1975. С. 734–736.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. СПб. : Каравелла, 1993. 848 с.
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики [Электронный ресурс] // Слово. Православный образовательный портал. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37307.php (дата обращения: 6.12.2020).
- Еселев Н. Шишков. М. : Молодая гвардия, 1973. 224 с.
- Ильин И. А. Собр. соч. : в 10 т. Т. 6. Кн. 2. М. : Русская книга, 1996. 669 с.
- Марков Г. Слово о Шишкове // Шишков В.Я. Собр. соч. : в 8 т. Т. 1. М. : Гослитиздат, 1960. С. 5–16.
- Наследие В. Я. Шишкова: феноменология творчества (К 135-летию со дня рождения В.Я. Шишкова) : колл. моногр. / науч. ред. В. А. Редькин ; Тверской гос. ун-т. Тверь, 2010. 232 с.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков : новый взгляд. Очерк творчества В.Я. Шишкова. Тверь : Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 152 с.
- Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского [Электронный ресурс] // Чудеса Божии. URL: http://profi-rus.narod.ru/knigi/Simfoniya-po-tvoreniyam-svyatogo-pravednogo-Ioanna-Kronshtadtskogo.html (дата обращения: 6.12.2020).
- Шишков В. Я. Тайга // Шишков В.Я. Собр. соч. : в 8 т. Т. 1. М .: Гослитиздат, 1960. С. 19–192.
- Шишков В. Я. Пурга // Шишков В.Я. Собр. соч. : в 8 т. Т. 1. М. : Гослитиздат, 1960. С. 435–509.