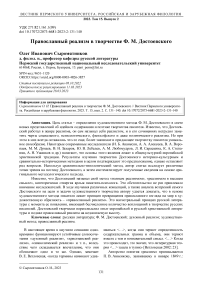Православный реализм в творчестве Ф. М. Достоевского
Автор: Сыромятников О.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - определение художественного метода Ф. М. Достоевского в свете новых представлений об идейном содержании и поэтике творчества писателя. Известно, что Достоевский работал в жанре реализма, он сам называл себя реалистом, и в его сочинениях нетрудно заметить черты социального, психологического, философского и даже политического реализма. Но при этом в них всегда оставалось что-то еще, более значимое и придающее творчеству писателя уникальное своеобразие. Некоторые современные исследователи (И. Б. Аванесян, А. А. Алексеев, В. А. Воропаев, М. М. Дунаев, В. Н. Захаров, Ю. В. Лебедев, А. М. Любомудров, Л. И. Сараскина, К. А. Степанян, А. Н. Ужанков и др.) полагают, что основы этого явления лежат в общекультурной европейской христианской традиции. Результаты изучения творчества Достоевского историко-культурным и сравнительно-историческими методами в целом подтверждают это предположение, однако оставляют ряд вопросов. Используя сравнительно-типологический метод, автор статьи исследует различные точки зрения на поэтику Достоевского, а затем систематизирует полученные сведения на основе оригинального методологического подхода. Известно, что Достоевский называл свой метод «полным реализмом», «реализмом в высшем смысле», категорически отвергая ярлык писателя-психолога. Это обстоятельство не раз привлекало внимание исследователей. В ходе изучения различных концепций, а также анализа воззрений самого Достоевского на цели и задачи художественного творчества автору удается доказать, что в основе художественного метода писателя лежит принцип превращения православного взгляда на мир в художественную образность - «православный реализм». Это магистральный принцип русской литературы с момента ее появления, имеющий бесчисленное количество воплощений в творчестве русских писателей. Достоевский творчески переосмыслил опыт европейской и русской христианской литературы и поднял православный реализм на недосягаемую высоту.
Русская литература, ф. м. достоевский, духовный реализм, художественный метод, православный реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147241887
IDR: 147241887 | УДК: 271:821.161.1(09) | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-2-131-140
Текст научной статьи Православный реализм в творчестве Ф. М. Достоевского
В настоящее время в научном сознании одновременно функционируют устойчивые словосочетания «духовный реализм», «христианский реализм», «символический реализм» и т. п., вследствие чего складывается впечатление, что они обозначают одно и то же. Однако, замечает В. Е. Ветловская, «когда термины начинают удва- иваться <…>, когда они теряют определенность содержательных границ и объема, они теряют вместе с тем и познавательный смысл. <…> Когда это происходит, это значит, что литературная теория <…> зашла в тупик» [Ветловская 2002: 23].
Авторство понятия «реализм» приписывается П. В. Анненкову, заявившему в январе 1849 г.:
«Появление реализма 1 в нашей литературе произвело сильное недоразумение, которое уже пора объяснить» [Анненков 1879: 31]. Полагаем, критик лишь легитимизировал явление, которое уже жило в общественном сознании, потому что еще двумя годами ранее И. С. Тургенев сообщал В. Г. Белинскому: «Затеял я также статью под названием “Славянофильство и Реализм” – может быть, хорошо выйдет» [Тургенев 1982: 231]. Именно Белинскому, по словам В. Н. Захарова, принадлежит «исчерпывающее определение нового творческого метода: верное воспроизведение действительности ». Однако, отмечает исследователь, «весь вопрос заключается в том, как понимать принцип адекватности искусства действительности» [Захаров 2001: 7], т. е. что считать критерием его «верности», правильности. Сама по себе действительность (реальность) такова, какова она есть, но каждый человек воспринимает ее через призму своего мировоззрения, возникающего в результате фидеической2 и рациональной деятельности, обусловливающей характер онтологии и гносеологии человека.
К атрибутам реализма В. Н. Захаров относит «верность действительности, социально-психологический и <…> исторический детерминизм» [там же], однако нетрудно заметить, что эти черты в той или иной мере присущи литературе всех времен и народов. К тому же представления о «верности», «действительности», «социальности» и т. д. в разных мировоззренческих системах разные. Поэтому мы считаем главным признаком реалистического искусства честность – сознательное стремление художника изобразить действительность такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой бы он хотел ее видеть. Если способы и методы рационального познания одинаковы для всех людей (разумеется, с учетом индивидуальной специфики), то формы фидеи-ческого сознания, познания и знания могут значительно различаться в силу разности предметов веры людей. Ими может быть всё, что угодно: какой-либо материальный объект, явление природы, другой человек, абстрактная философская идея, Бог, боги и т. д. Вера придает этим предметам особое значение и превращает их в элементы аксиологического сознания, которое служит «оптикой» для восприятия человеком окружающего мира. Используя ее, идеалист и материалист, глядя на один и тот же предмет, видят его одинаково, но воспринимают по-разному и по-разному описывают средствами одного и того же языка.
Предметом духовного реализма является описание взаимодействия духовного мира человека с внешним духовным миром, к которому фидеиче- ское сознание относит Бога (богов), ангелов (духов) и других нематериальных в обычном смысле существ. Человек может взаимодействовать с ними благодаря духовной сфере своей личности, и если впоследствии он опишет это взаимодействие, максимально точно изображая увиденное, то возникнет произведение духовного реализма. Бесчисленные описания духовной реальности, сделанные художниками разных эпох и народов, с одной стороны, дают необходимый материал для выработки достоверного представления о ней, а с другой – говорят о том, что познание духовного мира во всей полноте невозможно. Следовательно, и полученное таким образом знание не может быть выражено во всей полноте по причине особенностей человеческой речи, возникшей из необходимости описания прежде всего материальных и, в меньшей степени, душевных (психологических) процессов и явлений. Об этом ярко сказал апостол Павел: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2–4).
Духовный мир остается неизменным на протяжении всей человеческой истории, поскольку существует в вечности, а не во времени. Для его описания античный политеизм, средневековый монотеизм и мистицизм Нового времени использовали, по сути, одни и те же художественные средства, несколько адаптируя их к особенностям восприятия людей каждой эпохи и культуры, поэтому можно утверждать, что духовный реализм – как художественный метод – был всегда. И. Б. Аванесян полагает, что в европейской культуре он достиг наивысшего развития в Средние века, так как «в этот период <…> важнейшей художественной задачей являлась разработка темы преображения человеческой души и духовного восхождения к Богу. Такой метод постижения человека и действительности в средневековом искусстве получил название “христианский реализм”, “духовный реализм”. Заметим, что понятийным ядром этих терминов является именно реализм» [Аванесян 2013: 13]. На наш взгляд, это совершенно естественно, потому что христианство относится к духовному миру как к объективной реальности и старается представить его в гармоничном единстве с видимым, материальным миром. Очевидно и то, что достоверно и полно духовно-материальный континуум может быть описан только реалистичным искусством.
Заметим, что Аванесян использует понятия «христианский реализм» и «духовный реализм» как синонимы, однако если «христианский реализм» – всегда духовный, то «духовный реализм» – далеко не всегда христианский, потому что духовный мир является предметом изображения не только христианского искусства. Эту ошибку допускают и другие исследователи, например, А. А. Алексеев называет духовным реализмом изображение процесса «возрождения человека на путях веры и христианской любви, ориентацию на Царство Небесное» [Алексеев 1998: 22]; А. П. Черников понимает под ним «цельное православное мировоззрение <…> устремленность его (писателя) творчества к Абсолюту» [Черников 1995: 316]; А. М. Любомудров определяет духовный реализм как «художественное освоение духовной реальности, т.е. реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия человека» [Любомудров 2003: 38] и т. д. Поэтому следует согласиться с замечанием И. А. Есаулова о том, что термин «духовный реализм» «представляется не вполне удачным для обозначения особенностей видения мира русскими писателями. Это понятие грешит некоторой внутренней неопределенностью: какая именно “духовность” имеется в виду? <…> Нынешние сторонники понятия “духовный реализм” могут заявить, что они имеют в виду как раз религиозный аспект этого понятия», но в этом случае необходимо пояснить, о какой именно религии идет речь, так как каждая религия представляет духовный мир по-своему [Есаулов 2007: 9]. Для преодоления этого противоречия считаем необходимым введение «промежуточного звена» между «духовным» и «христианским» реализмом. Им может стать «религиозный реализм», описывающий духовный мир в пределах догматической системы той или иной религии.
Есаулов предлагает принять теоретическое обоснование термина «христианский реализм», предложенное В. Н. Захаровым [Захаров 2001: 10], замечая при этом, что «христианский социум – и сама христианская картина мира – неоднородны. Вполне обоснованно можно выделять различные ярусы этого социума» [Есаулов 2007: 17]. Исследователь считает, что между ними нет твердых границ: «Вполне отдавая отчет в этой неоднородности, следует заметить, что ценностные ориентации архиерея и кузнеца Вакулы в “Ночи перед Рождеством” вряд ли кардинально различны в качестве “официальной” и “народной”: они могут быть поняты не в контекстах “двух культур”, но в контексте единой христианской культуры» [там же]. К сожалению, в данном утверждении игнорируется тот факт, что единой христианской культуры не существует, как минимум, тысячу лет. Между различными христианскими конфессиями (православием, католичеством и протестантизмом) существуют принципиальные различия, углубляющиеся и расширяющиеся с каждым годом, поэтому тезис Есаулова можно принять только при условии, что кузнец и архиерей будут принадлежать к одному христианскому исповеданию. В этом случае их формальный статус действительно не будет иметь значения, и они будут общаться между собой как единоверцы. Однако этого не произойдет, если тот же Вакула встретится с униатским или католическим епископом, – хотя бы потому, что сам Гоголь вообще не считал униатов христианами, а католиков называл «недовер-ками» [Гоголь 1937–1952, т. 2: 133].
Отличия в восприятии мира христианскими конфессиями приводят к тому, что на одни и те же мировоззренческие вопросы они дают существенно разные ответы. В результате писатели с разным типом христианской религиозности, обсуждая одну и ту же проблему, видят ее решение по-разному и создают на основе общего культурного материала глубоко различные (а порой и антагонистичные) по идейному содержанию произведения. Следовательно, есть все основания говорить о необходимости дифференциации христианского реализма на православный , католический и протестантский , что позволит максимально полно и всесторонне раскрыть духовное (религиозное) содержание произведений, созданных представителями каждой из этих конфессий.
К. А. Степанян «берет на себя смелость» определять христианский реализм как «всецелую верность изображенного» таким образом духовного мира «христианскому учению». И тут же спрашивает: «Возможно ли это?» [Степанян 2010: 9] При таком определении – разумеется, нет, потому что ни один честный писатель не сможет сказать, что он «всецело верно» изобразил мир в соответствии с христианским (или каким-либо другим) учением. Полагаем, степень такого соответствия определяется религиозной компетентностью писателя, развитостью его веры и таланта, а также многими другими объективными и субъективными факторами. Об этом говорит и сам Степанян, замечая, «что в творчестве одного писателя-христианина его мировоззрение может почти не найти выражения, в творчестве другого – обусловливать только идеологическую, моральную его составляющую, у третьего – как у позднего Достоевского – определять всю художественную картину мира» [там же]. Дей- ствительно, пишет В. Н. Захаров, «Достоевский был первым, кто в своем творчестве сознательно поднялся до высот христианского реализма, назвав его “реализмом в высшем смысле”» [Захаров 2001: 16]. Речь идет о словах, сказанных писателем незадолго до смерти и выразивших главную цель его творчества: «При полном реализме найти в человеке человека. <…> Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» [Достоевский 1972–1990, т. 27: 65].
Каждое сказанное человеком слово нужно воспринимать в системе его мировоззренческих координат. Сегодня очевидно, что Достоевский был православным человеком и православным писателем, выражавшим в художественной форме идеи и образы православия3. Православная антропология понимает под человеком разумное и свободное существо, одновременно и постоянно пребывающее в духовно-материальном континууме. Личность человека образована единством «внешнего» и «внутреннего человека», где под «внешним человеком» понимается его тело, «земная жизнь <…> или всё то, что дает земная жизнь и в чем состоит она», а «внутренний человек есть дух его, и жизнь по духу, состояние возрождения и стремление к соединению со Христом» [Иванов 2008: 667]. В естественной трихотомии человека дух занимает главенствующее положение, определяющее состояние ее интеллектуальной, волевой, эмоциональной и телесной сферы личности. Православный реализм через эти «оболочки» идет вглубь, к «внутреннему» человеку, исследуя духовно-душевно-телесное единство человека в неразрывной связи с материальнодуховным единством окружающего мира.
Это и есть «полный реализм», о котором говорил Достоевский. По его словам, «это русская черта по преимуществу <…> ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного...» [Достоевский 1972–1990, т. 27: 65], т. е. православия. Подчеркнем: православие было для писателя не внешним культурным фактором, а составляло основу всей его жизни: «Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что православие всё» [там же: 64]. Следовательно, под «реализмом в высшем смысле» нужно понимать «православный реализм» – художественный метод, позволяющий изображать взаимодействие духовного мира человека с внешним духовным миром в свете православного мировоззрения.
Полагаем, впервые – и именно в отношении к Достоевскому – термин «православный реализм»
употребил преподобный Иустин (Попович): «Пламенный пророческий идеализм Достоевский своим апостольством претворил в православный реализм», который есть «не что иное, как богочеловеческий реализм, то есть благодатное и органичное соединение Божьего и человеческого, небесного и земного» [Иустин 2005: 186, 177]. На эту особенность творчества Достоевского указывал и Н. А. Бердяев: «Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реальность. Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада… Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола…» [Бердяев 2001: 16–17].
Очевидно, что Достоевский создал свой метод не на пустом месте. Современный исследователь пишет: «Творчество в православии – это всегда попытка нарисовать и постигнуть созданный Богом мир. Самая важная и самая интересная для писателя тема – тема спасения человеком своей души. Это и следует назвать православным реализмом – художественным методом, совмещающим познание мира и спасение собственной души. Этим художественным методом и пользовались, порою сами того не сознавая, гениальные русские писатели, в этом методе и достигало их творчество наиболее полного и яркого результата... То, что мы называем православным реализмом, существовало в русской литературе на протяжении всего минувшего тысячелетия…» [Коняев 2022]. Действительно, уже в «Слове и Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского (XI в.) появляются художественные образы, символизирующие идею единства и различия духовных эпох Ветхого и Нового Завета – «рабыня Агарь и свободная Сарра» [Иларион 1997: 29]. На протяжении многих веков русская литература была православной по содержанию, перелагая Откровение на язык художественной образности и уча русских людей тому, что значит быть христианами в реальной жизни. Лишь в конце XVI в. на Руси появляется так называемая «светская литература», т. е. литература, обслуживающая эстетические потребности «света» – социальной элиты. Ее объем не был значителен, и православный реализм оставался магистральным направлением русской литературы, продолжая развиваться в направлении поиска новых художественных форм выражения идей и образов православия.
Многие принципы православного реализма (тео- и христоцентричность, соборность, умиление, связь со Священным Писанием и Преданием и др.) нашли свое выражение в трудах М. В. Ло- моносова, Г. Р. Державина и литераторов начала ХIX в., но с наибольшей силой и яркостью они воплотились в творчестве А. С. Пушкина, подвигнувшем русскую литературу на путь профетиче-ского служения: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…», «Веленью Божию, о муза, будь по-слушна…»4 и т. д. По словам В. Н. Захарова, именно Пушкина «сам Достоевский считал своим учителем на этом пути <…> и был особенно благодарен ему за уроки прозы в “Повестях покойного Ивана Петровича Белкина”» [Захаров 2001: 16]. Действительно, писатель прекрасно знал и глубоко понимал творчество Пушкина, о чем говорят многочисленные цитаты, разборы отдельных сочинений поэта и целостный анализ его творчества, сделанный в «Пушкинской речи» (1880). Завершая ее, Достоевский сказал: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» [Достоевский 1972–1990, т. 26: 149]. Полагаем, писателю удалось понять главное – целью Пушкина было не описание эстетических и интеллектуальных переживаний исключительных личностей в исключительных условиях или, напротив, персональных психологических проблем «маленького человека», а осмысление фундаментальных духовных законов, управляющих судьбами людей, народов и всего человечества.
Важный вклад в формирование православного реализма был сделан и Н. В. Гоголем, поставившим перед русской литературой ясную цель: «Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству» [Гоголь 1937–1952, т. 8: 269]. К сожалению, Гоголю не удалось создать поэтическую систему, способную решить эту задачу, – совершенство художественной формы его произведений зачастую заслоняло их содержание, и читатели видели в словах писателя лишь виртуозное смехотворство. Все попытки писателя подчинить форму содержанию оказались тщетны, он оставил художественное творчество и обратился к публицистике – появились «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).
Тем не менее, замечает Л. И. Сараскина, опыт Гоголя имел огромное значение для последующих поколений писателей, работавших в русле православного реализма. по этому поводу: «Достоевский, осуществляя религиозную проповедь через искусство <…>, исправил ошибку Гоголя, отказавшегося от искусства, так как понял, что защиту христианства он, Достоевский, должен вести наиболее доступным ему путем. Поэтому художественное творчество стало для него одной из форм религиозной жизни...» [Сараскина 2016: 41]. Это была обычная жизнь обычного русского человека: исполнение заповедей Божиих, молитва, участие в богослужениях и таинствах, чтение Священного Писания и святоотеческой литературы. Так жили многие русские писатели и до Достоевского, и после. Следуя законам реализма, они изображали духовно-материальное единство мира таким, каким видели его через призму своей веры, неукоснительно следуя важнейшему творческому принципу, о котором говорил Д. С. Лихачев: русская «литература рассказывает или, по крайней мере, стремится рассказать не о придуманном, а о реальном. <…> Открытый вымысел не допускался» [Лихачев 1986: 8]. Твердое следование русского писателя принципу честности изложения основывалось на убеждении в том, что правда – основа жизни православного человека, помнящего слова Христа о том, что дьявол есть «лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44).
Основными вопросами русской православной литературы с момента ее возникновения являются вопросы о том, почему человек нарушает богоустановленный закон и что ему нужно сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни. Художественными вариантами ответов на эти вопросы стали романы Достоевского 1866–1880 гг. Так, в «Преступлении и наказании» описано действие духовного закона, обозначенного шестой заповедью Декалога5. В строгом соответствии с амартологией6 писатель показал, почему Раскольников преступил Божий и человеческий закон, а затем в столь же строгом соответствии с сотериологией7 рассказал об условиях и обстоятельствах его воскресения к новой жизни. Роман увидел свет в 1866 г., и с тех пор ни один авторитетный и образованный деятель Православной Церкви не нашел в словах писателя никаких расхождений с православным вероучением. Скорее наоборот, полное соответствие его идей православию позволило святому Иустину (Поповичу) назвать Достоевского «великим, бесстрашным православным апостолом, пророком, философом и поэтом» [Иустин 2007: 311].
В творчестве Достоевского реализм достиг своего наивысшего развития, став средством изображения не только видимого, но и невидимого (духовного) мира ресурсами литературного языка. По этому поводу С. И. Фудель писал: «Христианство Достоевского в искусстве – это не речи проповедника. Это почти не определимая локально, но всегда ясно ощущаемая точка зрения на мир, какой-то луч света» [Фудель 2016: 111]. Свет Христовой истины пронизывает каждое слово православного писателя и воплощается в главной идее его творчества. По словам архиепископа Антония (Храповицкого), Достоевский «всё время писал об одном и том же. <…> Та объединяющая все его произведения идея, которую многие тщетно ищут, была не патриотизм, не славянофильство, даже не религия, понимаемая как собрание догматов, эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной; она была не посылкой, не тенденцией, но просто центральной темой его повести, она есть живая, близкая всякому, его собственная действительность. Возрождение – вот о чем писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное самоубийство; только около этих настроений вращается вся жизнь всех его героев, и лишь с этой точки зрения интересуется сам автор различными богословскими и социальными вопросами…» [Антоний 2007: 254–255].
Действительно, в каждом романе Достоевского есть персонажи, совершающие преступление сначала Божьего, а затем и человеческого закона. Некоторые из них впоследствии находят путь к новой жизни (Раскольников и Соня, Степан Трофимович и Шатов, Версилов и его сын, Алексей и Дмитрий Карамазовы и др.), а другие гибнут физически или духовно (Свидригайлов, Кириллов и Ставрогин, Крафт и Ламберт; старик Карамазов и Смердяков и т. д.). Тема богоотступничества образует основу внешних идей всех романов писателя. Но он не только исследует причины грехопадения человека, но и обязательно указывает ему путь ко спасению в строгом соответствии с православным учением о грехопадении и спасении. Это придает творчеству Достоевского неповторимое своеобразие и отличает его от творчества других писателей-реалистов, нередко только ставящих вопросы, но не отвечающих на них.
Единственный роман Достоевского, в котором нет выраженной сотерийной линии, – «Идиот» (1869). Но, во-первых, писатель сам считал этот роман неудачным: «…романом я не доволен; он не выразил и 10-й доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор» [Достоевский 1972–1990, т. 29, кн. I: 10]. А во- вторых, уже изначально замысел писателя был намного сложнее, чем изображение грехопадения одного человека. Образом главного героя Достоевский хотел опровергнуть представление о нравственном идеале, сложившееся в русском общественном сознании середины 1860-х гг. Возникнув на волне руссоизма и французского социализма, оно выражало представление о том, что человек может быть хорошим сам по себе, без внешних причин и собственных усилий. Подобные идеи не просто упраздняли Бога, они возводили на Его место человека, провоцируя его на акты безграничного своеволия.
В начале XIX в. основным средством описания духовного мира в России был церковнославянский язык, однако уже тогда он воспринимался читающей публикой как нечто архаичное и узко церковное. Главной причиной такого отношения была деструкция религиозного сознания, о которой в начале 1860-х гг. с тревогой говорил святитель Игнатий (Брянчанинов): «Дух времени таков и отступление от Православно-христианской веры начало распространяться так сильно, безнравственность так всеобща и так укоренилась, что возвращение к христианству (курсив наш. – О. С .) представляется невозможным» [Игнатий 2022]. Именно в это время Достоевский, следуя трудным путем православного писателя, смог осмыслить многовековой опыт европейской христианской культуры, обогатить его открытиями Пушкина, учесть ошибки Гоголя и придать православному реализму законченные формы. Найденные им художественные средства выражения православного взгляда на жизнь (православная поэтика) дали возможность говорить о духовном мире привычным для читателя литературным языком, утвердив православный реализм в качестве основного метода русской литературы.
Впоследствии в этом направлении работали А. К. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. Шмелев. Отдельные аспекты сотерии и апостасии рассматривали в своем творчестве И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, П. И. Мельников-Печерский, А. Н. Островский, Н. Г. Помяловский, А. П. Чехов, Г. И. Успенский и др. Сложные метаморфозы православный реализм претерпел в творчестве литераторов Серебряного века и соцреализма. Фи-деический анализ литературы этого времени должен стать предметом специального изучения, скажем лишь, что и в творчестве советских писателей середины ХХ в. (М. М. Пришвина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина и др.) можно найти идеологически редуцированные черты православного реализма.
Уже почти два тысячелетия православие следует учению Христа. Оно не претерпело тех во- люнтаристских трансформаций, которые происходили в западном христианстве начиная с VIII в., и сохранило неразрывную связь со своим первоисточником – Священным Писанием и Преданием. Отдельные следы первоначального христианского реализма можно найти и в творчестве западноевропейских писателей: например, У. Шекспира, М. Сервантеса и В. Гюго. По этому поводу Достоевский говорил, что хотя в Европе XIX в. христианства уже нет, но она всё же «сделала много христианского <...> Ещё бы, не сейчас же там умерло христианство, умирало долго, оставило следы. Да там и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства» [Достоевский 1972–1990, т. 27: 57].
В завершение скажем, что православный реализм является основой православной литературы – литературы, созданной носителями православного мировоззрения и выражающей в художественной форме идеи и образы православия. Разнообразие этой литературы огромно, но ее духовное (православное) содержание никогда не было предметом организованного целенаправленного изучения. В конце XIX в. в процессе развития русской религиозной философии начали складываться условия для формирования фидеистики – сферы гуманитарного знания, изучающей формы художественного воплощения веры человека, однако этот процесс был прерван революцией 1917 г., вследствие чего на протяжении последующих семи десятилетий литературоведение могло быть только марксистско-ленинским.
Полагаем, наконец настало время обратиться к духовному содержанию русской литературы, по-прежнему остающейся для многих современных читателей и исследователей terra incognita. Православный реализм должен стать предметом внимательного и бережного изучения, включающего в себя помимо средств филологического исследования и ресурсы православного богословия, а при необходимости – и других гуманитарных наук. Систематизированное изучение православной поэтики – совокупности художественных средств выражения идей и образов православия – даст возможность выработать единую методологию, позволяющую находить и описывать фидеическое содержание в литературных произведениях самых разных жанров и эпох. В результате появится целостная картина русского литературного процесса в динамике развития российской и мировой литературы. Полагаем, творчество Достоевского имеет в этой связи особое значение. Совершенство художественных средств и приемов, достигнутое писателем, может стать эталоном при изучении произведений других писателей, работавших и работающих в жанре православного реализма, а полученный таким образом опыт ляжет в основание конфессионально ориентированного (православного) литературоведения.
Вспомним, как Достоевский определял основную идею романа «Преступление и наказание»: «Православное воззрение. В чем есть православие» [Достоевский 1972–1990, т. 7: 75].
Список литературы Православный реализм в творчестве Ф. М. Достоевского
- Аванесян И. Б. Проблемы изучения духовного реализма как художественного метода в современном литературоведении // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 2(20). С. 13-15.
- Алексеев А. А. Проблема духовного реализма в русской классической литературе XIX века // Дергачевские чтения - 98. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург, 1998. С. 22-24.
- Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок, 1849-1868. Отд. 2. СПб., 1879. 404 с.
- Антоний (Храповицкий), архиеп. Избранные труды. Письма. Материалы. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. 1056 с.
- Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. М.: ЗАХАРОВ, 2001. 173 с.
- Ветловская В. Е. Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. СПб.: Наука, 2002. 213 с.
- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. / гл. ред. Н. Л. Мещеряков; АН СССР, Ин-т литературы (Пушкин. дом). М.: Изд-во АН СССР, 1937-1952.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики // Феномен русской духовности: словесность, история, культура: материалы Междунар. науч. конф. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. С.9-19.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Евангельский текст в русской литературе XVIII-ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Вып. 3 / отв. ред. В. Н. Захаров; ПетрГУ. Петрозаводск, 2001. С. 5-20.
- Иванов А. В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. СПб., 2008. 911 с.
- Игнатий (Брянчанинов), святитель. О необходимости Собора для Российской Православной Церкви. Записки епископа Игнатия Брянчанинова (1862-1866 гг.). URL: https://azbyka.ru/otech-nik/pravüa/kanony-pravoslavnoj -tserkvi-grabbe/17_2 (дата обращения: 05.06.2022).
- Иларион Киевский, митр. Слово о Законе и Благодати / Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 1. С. 26-62.
- Иустин (Попович), преподобный. Философские пропасти. 2-е изд., испр. / Издат. совет РПЦ. М., 2005. 288 с.
- Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Ф. М. Достоевского. Мн.: Издатель Д. В. Харченко, 2007. 312 с.
- Коняев Н. М. Православный реализм-литература будущего: доклад, прочитанный 05.04.2006 на X Всемирном Русском Народном Соборе, посвященном теме «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке». URL: http://www.voskres.ru/ idea/koniaev.htm (дата обращения: 06.03.2022).
- Лихачев Д. С. Литература Древней Руси / Изборник: Повести Древней Руси. М.: Худож. лит., 1986. 447 с.
- Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 272 с.
- Сараскина Л. И. «Достоевский жил с нами всё это время...» // Фудель С. И. Наследство Достоевского. 3-е изд., испр. и доп. М.: Русский путь, 2016. С. 3-42.
- Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб.: Крига, 2010. 400 с.
- Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. ИРЛИ. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. Письма, 1831-1849. М.: Наука, 1982. 607 с.
- Фудель С. И. Наследство Достоевского. 3-е изд., испр. и доп. М.: Русский путь, 2016. 340 с.
- Черников А. П. Проза И. С. Шмелева: концепция мира и человека. Калуга: Калуж. обл. ин-т усоверш. учит., 1995. 341 с.