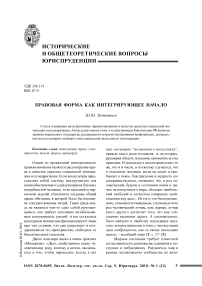Правовая форма как интегрирующее начало
Автор: Ветютнев Юрий Юрьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Исторические и общетеоретические вопросы юриспруденции
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена интегративному правопониманию в качестве средства социальной ин- теграции и солидаризации. Автор делает вывод о том, что действующая Конституция РФ является законом переходного государства, раздираемого острыми внутренними конфликтами, централь- ное место в котором занимает тема социальной целостности и интеграции.
Интеграция, право, солидарность, текст, форма, процедура
Короткий адрес: https://sciup.org/14972690
IDR: 14972690 | УДК: 340.114
Текст научной статьи Правовая форма как интегрирующее начало
Одним из проявлений интегративного правопонимания является рассмотрение права в качестве средства социальной интеграции и солидаризации. Если вся культура представляет собой систему инструментов для жизнеобеспечения и удовлетворения базовых потребностей человека, то ее исходной и первичной задачей становится создание общей среды обитания, в которой было бы возможно сосуществование людей. Такая среда вовсе не является чем-то само собой разумеющимся, она требует постоянно возобновляемых коллективных усилий, и все остальные культурные механизмы функционируют лишь при том условии, что уже существует и поддерживается это пространство, свободное от бесконтрольного насилия.
Данте Алигьери писал в своем трактате «Монархия»: «Дело, свойственное всему человеческому роду, взятому в целом, заключается в том, чтобы переводить всегда в акт всю потенцию “возможного интеллекта”, прежде всего ради познания, и, во-вторых, расширяя область познания, применять его на практике. И поскольку в целом происходит то же, что и в части, и поскольку случается, что в отдельном человеке, когда он сидит и пребывает в покое, благоразумие и мудрость его совершенствуются, очевидно, что и род человеческий, будучи в состоянии покоя и ничем не возмутимого мира, обладает наибольшей свободой и легкостью совершать свойственное ему дело... Из того, что было разъяснено, становится очевидным, с помощью чего род человеческий лучше, или, вернее, лучше всего другого достигает того, что ему собственно надлежит делать. А следовательно, было найдено и наиболее подходящее средство, которое приводит к тому, с чем все наши дела сообразуются, как со своею последнею целью, – всеобщий мир» [8, с. 27–28].
Мирное состояние требует известной согласованности, равновесия, единения в поступках и побуждениях. Разумеется, мир в рамках человеческого сообщества не явля- ется абсолютным, он имеет свои уровни и пороги, однако в целом он считается всеми нормальным и естественным, принимается в качестве отправной точки для любых оценок и планов. Обратное состояние, связанное с отсутствием этой минимальной умиротворенности и построенное на всеобщей открытой враждебности, знакомо современному человеку лишь фрагментарно; оно актуализируется во всевозможных экстремальных социальных ситуациях (стихийные бедствия, революционные события, войны и т. п.), когда ослабевает действие привычных социальных механизмов. Однако Т. Гоббс, описывая этот режим вражды, именно ему присваивает титул «естественное состояние», причем оно даже не может считаться обществом в собственном смысле слова: «все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» [6, с. 96].
Современные исследователи не отвергают этой гипотезы, хотя и описывают соответствующее положение дел в несколько иных терминах – например, в качестве «жертвенного кризиса». Согласно концепции Р. Жирара, вся система культурных механизмов предназначена главным образом для того, чтобы предотвратить наступление жертвенного кризиса, при котором вырывается наружу и распространяется тотальное беспорядочное насилие: «Стоит стереться жертвенному различию, различию между чистым и нечистым, как вслед за ним стираются и все прочие различия. Перед нами единый процесс победоносного шествия взаимного насилия» [9, с. 64].
В условиях распада социальной целостности, неизбежно сопровождаемого вспышкой насилия, гибнут все культурные ценности и достижения. Поэтому поддержание мира и единства оказывается наиболее важной, хотя зачастую и скрытой, миссией культуры. Угроза единству должна распознаваться как наиболее страшная и устраняться любой ценой.
Погашение агрессии или хотя бы ее снижение до социально допустимого уровня возможно лишь при условии, что все члены данного сообщества подчиняются некоторым общим образцам поведения. Разумеется, речь идет не о полном совпадении их представлений о должном и сущем, а всего лишь о наличии единого смыслового контекста, в котором протекает совместная деятельность. Солидарность представляет собой такое качество социальной коммуникации, при котором ее участники сознательно или интуитивно разделяют некоторые установки, стандарты поведения и коллективные ценности в той мере, в какой это позволяет им действовать сообща.
Объединение людей в устойчивое сообщество требует надежных механизмов, которые действовали бы с достаточно высокой степенью автономии, без опоры на индивидуальное целеполагание, которое не обладает необходимой долговечностью, подвержено колебаниям и не может удерживать в стабильном состоянии многочисленные коллективы. Индивидуальная воля должна автоматически подчиняться некоторому фактору, который по отношению к ней является объективным, в противном случае единство и мир станут недостижимыми. Наиболее распространенным вариантом решения этой проблемы является фетишизм, который отнюдь не сводится к архаичным формам верования, а представляет собой универсальный способ социальной организации.
Социальные связи и коммуникации, которые образуют живую плоть любого человеческого сообщества, в основном являются сложными, невидимыми и неосязаемыми, а потому недостаточно устойчивыми. Фетиш – это особый предмет, который обозначает собой систему социальных отношений, репрезентирует их, то есть делает наглядными для всех членов данного сообщества. В некотором смысле фетиш даже отождествляется с эти- ми отношениями, которые благодаря ему уже не воспринимаются как нечто разрозненное, эфемерное, а обретают конкретную форму и очертания.
В родовой культуре члены общества объединены прежде всего наличием общего предка, поэтому фетишем становится то, что напоминает об этом предке (культурном герое) и в силу подобия замещает его, так что он фактически участвует в жизни рода на всем ее протяжении и своим присутствием поддерживает социальное единство. Вокруг фетиша (тотемного животного, столба и т. п.) выстраивается ритуально-мифологический комплекс, подчиняющий себе все совместное существование людей. При этом «в культуре, ориентированной преимущественно на ритуал, отсутствовала однородная семиотическая система, специально предназначенная для фиксации, хранения и переработки информации. О такой системе можно говорить лишь с широким распространением письменности» [2, с. 11].
В усложняющемся обществе возникают новые объединяющие механизмы, которые дополняют и подкрепляют друг друга; усиливающийся риск распада компенсируется множественностью «страховочных узлов». Религия продолжает ритуально-мифологическую линию социальной интеграции, обогащая ее усложненным церемониалом, иерархией предметов поклонения, внешней атрибутикой, корпусом священных текстов и т. п. На определенном этапе истории фетишем социального устройства становится человеческая личность. Фигура монарха часто является воплощением социального порядка, мира, целостности государства, политического единства и народного согласия. Монарх непременно наделяется сверхъестественными качествами, отражающими его непосредственную связь с высшими силами («Сын Неба», «помазанник Божий»). Так, в странах средневековой Европы короли обладают магическими способностями, в частности, имеют дар исцелять некоторые болезни наложением рук (эта черта используется в том числе для легитимации их власти) [4, с. 136–163]. Своей внешностью король также должен отличаться от подданных, этому служат не только искусственные атрибуты власти, но и естественные, природные отметины на его теле [13, с. 45–48].
Появление и развитие письменности знаменуют собой формирование новых способов интеграции. «Письмо и знание, письмо и управление, письмо и власть идут нераздельно рука об руку» [1, с. 160]. Социально значимая информация, образующая каркас человеческого сообщества и гарантирующая его сохранение в качестве единого целого, существовала ранее в виде устной речи, ритуально-телесных практик или изображений. Письменность выступает в качестве нового носителя коллективной памяти, перекодированной в систему однотипных знаков и благодаря этому свободно передаваемой во времени и пространстве практически без ограничений и смысловых потерь.
Письменный текст со временем берет на себя функцию основного социокультурного интегратора, главным образом благодаря созданию новых, технически более совершенных форм его воспроизводства. Устойчивость и целостность общества обеспечиваются, по существу, магическим путем – изготовлением двойника, дублирующего в миниатюре социальную систему и принимающего на себя все риски, связанные с ее функционированием. Широко известна концепция «двух тел короля» в средневековой политической и правовой мысли, в соответствии с которой у короля как носителя сакральной власти имеются два тела, он как бы един в двух лицах: король как личность и король как носитель власти, олицетворение сообщества, своего государства, как «гарант» стабильности и благополучия. Одно время бытовала такая практика, когда после смерти короля изготавливался его двойник в натуральную величину – кукла, которая прибивалась к крышке гроба и подвергалась захоронению вместе с умершим.
С появлением книгопечатания возникает возможность тиражировать, фиксировать, хранить образцы поведения практически без количественных ограничений. С этим событием совпадают некоторые другие явления, связанные с «юридической магией». В первую очередь отмирает обычай «двух тел короля» одновременно с обязанностью короля лично участвовать в боевых действиях, что в свое время произвело скандальный эффект, потому что считалось невозможным, чтобы армия сражалась не под командованием мо- нарха. Одновременно с этим набирает силу королевское право как новый монопольный вид права, объединивший разрозненные доселе потоки правовой информации (как известно, в Средневековье существовало три основных потока – обычное право, церковное право и римское право, которые функционировали как бы автономно друг от друга и в иерархическую структуру выстроены не были). Именно благодаря книгопечатанию королевская власть обретает возможность значительно усилиться за счет использования этой юридической магии, которая по-прежнему эффективно подчиняет себе деятельность человека.
Общей тенденцией этого периода, по мнению исследователей, является дистанцирование [13, с. 74–92]. Власть уже не находится в гуще событий, а как бы вынесена за скобки; король уже физически не присутствует в народе, он изолирован, находится в особой резервации. Дистанцируется также юридическое воздействие; центр, откуда исходит юридическая информация, может располагаться за тысячи миль от места ее получения.
Закон, в самом широком смысле этого слова, способен быть фетишем и выполнять в обществе интегрирующую функцию именно в силу своей формы, а не содержания. «К социальным фетишам можно отнести не только вещи, но и слова, например, этнонимы (имя группы является надежным и весьма эффективным ее заместителем), а также “соци-онимы” (род, клан, племя, народ, нация, этнос, человечество)» [12, с. 15]. В этом смысле уникальная интегративная способность закона, очевидно, определяется тем, что он в качестве фетиша сочетает в себе слово и вещь, идеальное и материальное, будь то скрижали с заповедями Моисея, свиток, книга с напечатанным текстом или экран компьютерного монитора. Интересно, что в некоторых случаях предметный носитель даже обладает самостоятельной силой и может обходиться без текста: «Грамота служила символом. Поэтому она вообще могла не содержать текста, и такие cartae sine litteris нередко применялись. Государь, желавший добиться повиновения подданных или передать им свой приказ, мог послать им простой кусок пергамента или печать без грамоты, – этого символа его власти было достаточно» [7, с. 157]. Материали- зация идеи в звуке или даже действии является относительно эфемерной, недолговечной, требует постоянного повторения и подтверждения. Напротив, «буква закона» обладает одновременно и прочной вещественностью, и одухотворенностью, что позволяет ей стать символом коллективного единства и предметом своеобразного поклонения.
Правовые явления, видимо, в принципе неотделимы от внешнего способа своей материализации, то есть от формы.
Форма применительно к праву представляет собой внешний способ его существования, очертание, границу между правом и внешней социальной средой. В качестве содержания права выступают конкретные требования, дозволения, запреты, юридические суждения и решения.
Формальная сторона права онтологически является главенствующей по отношению к содержанию. Действительно, содержание правовых текстов не является для них чем-то специфичным – оно может быть заимствовано из иных областей социальной жизни; юридические положения могут быть простым повторением нравственных правил, религиозных заповедей, идеологических лозунгов и т. п. Содержание права является его переменной, тактической составляющей. Стратегия права воплощается именно в его формальных свойствах.
Правовая форма в данном случае рассматривается как многозначное явление, которое выступает, как минимум, в четырех смыслах:
-
1 . Языковая форма. Юридический язык – едва ли не главный фактор, конституирующий право как самостоятельный социальный институт. Ни для кого не секрет, что юридические тексты пишутся и всегда писались на совершенно особом языке; сам этот язык меняется, но его «особость» по отношению к общелитературному усредненному языку данной эпохи и общества неизменно сохраняется. Регулярно высказываемая учеными-юристами идея, будто бы законы должны писаться на языке, понятном и близком большинству людей, едва ли имеет шансы быть претворенной в жизнь.
-
2. Документальная форма, то есть способ внешнего оформления и обнародования юридического текста. Речь идет о том, что юридическим является лишь такой текст, который особым образом выглядит, обладает необходимыми наружными приметами («реквизитами»), традиционно включающими в себя его наименование, дату и место принятия, номер, указание на властного субъекта,
Р. Барт в своих эссе «Разделение языков» и «Война языков» показал, что наличие у каждой социальной группы собственного языка, так или иначе вписывающегося в национальный язык (так называемого «социолекта»), является, по существу, залогом выживания данного коллектива. Использование определенных слов и грамматических конструкций позволяет выстраивать ту картину мира, которая функционально необходима данной социальной группе. Эти языки находятся между собой в сложных отношениях, часто построенных на силе и противостоянии [3, с. 519– 540]. Соответственно, написание юридических текстов на языке большинства не имеет смысла: «незачем приспосабливать письмо к языку большинства, ибо в обществе отчуждения большинство не универсально, и потому говорить на его языке (так поступает массовая культура, ориентируясь на статистическое большинство читателей и телезрителей) – значит все-таки говорить на одном из частных языков, пусть даже и на самом массовом» [там же, с. 533]. Если следовать классификации Барта, то юридический язык относится к так называемым «энкратическим» языкам, которые обладают властным характером – либо рождаются и живут внутри властных группировок, либо используются ими для влияния на остальное общество.
Обособление юридического «социолекта» внутри национального языка, по существу, способствует сохранению правовой системы как функционально самостоятельного механизма в составе общества; переход права на разговорный или любой другой язык, соответственно, означал бы постепенное растворение в культуре и утрату своей предметности. Особенности юридического языка соответствуют миссии права и юридического сообщества как хранителей идеи социального порядка.
Приведем в этой связи характерное рассуждение одного из ведущих российских специалистов по философии права. Изучая язык Декларации независимости США 1776 г., И.П. Малинова отмечает ее сдержанный пафос, достоинство слога, благородную интонацию («Когда в ходе событий для одного народа становится необходимым разорвать политические узы, связывавшие его с другим, и среди других держав на земле занять самостоятельное и равное положение, на которое ему даруют право законы естества и созда- тель, – приличествующее уважение к мнению человечества обязывает объявить причины, побуждающие к отделению…»). Далее, переходя к современной традиции составления международных актов о правах человека, автор указывает: «В ней превалирует установка на исчерпывающую точность формулировок, категоричность тона и присущая скорее отраслевым кодексам канцелярская стилистика. В грамматическом, фразеологическом и вообще стилистическом построении самих преамбул, задающих тон всему документу, совершенно отсутствует человек – и как адресат деклараций, конвенций, и как их смысл, и как тот подлинный автор, от лица которого и составляли конвенцию ее авторы. В результате в этих декларациях и конвенциях есть буква, но нет духа» [10, с. 87].
Но это суждение противоречиво. Разве сама бросающаяся в глаза категоричность и отсутствие личностного начала не относятся именно к духу этих юридических текстов? Видимо, здесь предполагается, что дух права может быть основан только на чувстве индивидуальности; в этом случае безличность и холодность юридического языка действительно свидетельствовали бы о бездуховности. Но если «подлинный автор» правовых текстов – не личность, а социальное целое, то категоризм и строгость формулировок говорят именно о том, что замысел текста не обращен к отдельно взятому лицу, а направлен на общее благо, являющееся для каждого императивом.
Что касается современных юридических актов, направленных на защиту правовых ценностей, то они достигают этого именно своим формализмом, требовательностью, намеренной сухостью и бесстрастностью, поскольку устранение эмоций оказывается одним из необходимых первоначальных условий для создания общей среды обитания.
его подпись и т. д. Именно эти внешние признаки придают обычному письменному тексту, содержащему некую информацию, особый («юридически значимый») статус, переводят его в привилегированный режим особой авторитетности и влиятельности. Определение набора и вида этих атрибутов составляет исключительную прерогативу высшей власти, поскольку именно через эти символические средства она контролирует потоки правовой информации.
Совокупность внешних элементов документальной формы преследует такие основные цели, как локализация юридического текста в социальном времени и пространстве, его индивидуализация среди остальных, а также подтверждение его регулятивных свойств, вытекающих из властного санкционирования.
Если речь идет о законе как юридическом тексте с повышенной интенсивностью действия, то особую важность приобретает то, каким способом и когда он опубликован. Впрочем, признак публичности и открытости юридического текста, скорее всего, не абсолютен и допускает исключения; например, в Древней Японии существовал принцип «законы исполнять, но не знать». Тайный характер носят некоторые статьи закона о государственном бюджете, выпускаются секретные нормативные акты, но они не перестают быть правовыми, оттого что остаются неизвестными широкой публике. Следовательно, речь идет не просто о публичности, в обыденном понимании этого слова, как полной общедоступности и открытости, а о юридической публичности, которая заключается в том, что правовой текст должен быть тем или иным образом доведен до сведения своих адресатов. Собственно, современное требование обязательной публикации законов основывается на предположении, что закон предназначен для всего общества, а не для его отдельных подсистем или представителей.
Документальная форма права обеспечивает единство социально-нормативного поля, «маркируя» собой те предписания и дозволения, которые в рамках данного сообщества не нуждаются в дополнительном обосновании своей значимости. Иными словами, авторитет нормы гарантируется местом («источником») ее нахождения или, точнее, способом внешне- го оформления. Это придает правовой системе необходимую внутреннюю гибкость и динамизм при сохранении общих параметров ее конструкции в неизменном виде. Даже в самых децентрализованных системах права формальные стандарты законности непременно остаются едиными, что достигается, в частности, благодаря существованию конституций.
-
3. Процедурная форма , то есть особый порядок совершения юридических действий, создания юридических текстов и осуществления тех операций, которые в этих текстах описываются. В этом смысле вполне правы те ученые, которые говорят о процессе или процедуре как о центральном звене права, а следовательно, и всей правовой реальности.
-
4. Визуальная форма. Хотя в основе своей правовой механизм построен на речевых средствах, представляет собой область вербальных практик, в ряде случаев он вынужденно отступает от этого принципа и прибегает к иным способам воздействия. Зрительные образы представляют собой выражение символизма, являющегося неотъемлемой характеристикой самой правовой формы; они выступают своеобразными опознавательными знаками, которые мобилизуют людей на определенный тип поведения, причем в тех условиях, когда присущие праву вербальные формы воздействия по тем или иным причинам неприменимы. «Изобразительные правовые символы наиболее ярко выражают внешнюю наглядность и образность, что позволяет без особых интеллектуальных усилий выразить и преподнести юридическую суть тех или иных жизненных ситуаций» [5, с. 72].
Специфика процедуры связана с тем, что она, в отличие от остальных видов юридической формы, расположена не только в пространстве, но и во времени. Речь идет о создании особых хронологических структур, которые дисциплинируют социальный организм. В этом смысле юридическая процедура носит характер упорядочивающего и организующего ритма, функционально соответствующего архаичному ритуалу.
Разрастание и усложнение процедур свидетельствуют о падении доверия к личностному началу и о стремлении к своеобразной автоматизации социальных процессов, когда ожидаемый результат (например, справедливое судебное решение) достигался бы независимо от воли и сознания отдельных людей. Тем самым процедура как бы заменяет собой индивидуальность, создавая безотказный механизм, который может действовать при минимальных инвестициях личной добродетели.
В современных правовых системах наиболее детально регламентируются три процедуры: законодательная, описывающая порядок создания базовых юридических текстов; избирательная, определяющая способ формирования важнейших институтов власти; судебная, представляющая собой алгоритм применения закона. Таким образом, юридическая процедура, если понимать ее в обобщенном смысле, образует своего рода полный технологический цикл, включающий в себя создание нормативного текста вместе с приведением его в действие и определением круга лиц, правомочных его создавать. В ряде случаев
(например, в англосаксонской правовой традиции) процедурный аспект ставится по своему значению выше материально-правового, поскольку считается, что совершение юридических действий в правильном порядке является достаточной гарантией получения желаемого социального результата.
Например, необходимость освоения визуально-цветового инструментария в случае с регулированием дорожного движения (светофор, дорожные знаки и др.) достаточно очевидна и связана с тем, что в данной сфере не срабатывают привычные для права вербальные средства влияния. Дело в том, что весь процесс правового регулирования представляет собой цепочку актов внушения («суггестии»), направленных на то, чтобы перевести поведение индивидов и социальных групп в русло, желательное для власти. Обычно для этого используются различные словесные приемы, как правило, выражаемые в письменной форме. Однако в случае с дорожным движением обнаруживается особая задача, обусловленная тем, что необходимо с чрезвычайной быстротой манипулировать массовыми социальными потоками, причем такими, в которых единицами выступают не столько человеческие индивиды, сколько технические устройства. Использование цветовых сигналов в этом случае практически не имеет альтернатив, поскольку они вызывают быструю реакцию, легко переключают действия человека в нужное направление.
Определяемые юридическими текстами процедурные формы, а также визуальная юридическая атрибутика зрительно укрепляют единство социальной системы, поскольку являются общими для различных частей социума, в том числе значительно удаленных друг от друга в пространстве и времени.
Тем самым обеспечивается, условно выражаясь, «автоматизация» социальных процессов и создаются объединяющие всех алгоритмы социального взаимодействия; происходит своего рода принудительная солидаризация, отличающаяся от органической солидарности ритуала письменной формой закрепления и наличием карательных санкций за отступление от предписанного.
Действующая Конституция Российской Федерации является законом переходного государства, раздираемого острыми внутренними конфликтами, и потому в ней занимает центральное место риторика социальной целостности и интеграции. Именно этому в основном посвящена преамбула к Конституции, где многократно в различных вариациях выражена идея о сплоченности и единстве российского общества. Формулировка «многонациональный народ» усилена словами «соединенные общей судьбой на своей земле», «гражданский мир и согласие», «исторически сложившееся государственное единство» и др. Столь настойчивое повторение может свидетельствовать о том, что именно сохранение единства и предотвращение распада являлись основной задачей права в момент принятия Конституции.
Для сравнения можно процитировать преамбулу более раннего («саратовского») проекта российской Конституции: «Мы, граждане Российской Федеративной Республики, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз суверенных Республик, в целях обеспечения достойной жизни и подлинной свободы нынешним и всем последующим поколениям, сохранения и укрепления единства России, исходя из принципов незыблемости прав человека, социальной справедливости, свободы самоопределения наций, защиты прав всех народов, населяющих Российскую Федеративную Республику, их культуры, традиций и языка, твердо решив создать демократическое правовое государство, развивая и укрепляя отношения сотрудничества со всеми народами мира, способствуя сохранению жизни на Земле, основываясь на Декларации о государственном суверенитете Российской Федеративной Республики 1990 года, торжественно принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию» [11, с. 9]. При тождественности основного содержания очевидно и некоторое различие между двумя преамбулами: по сравнению с принятой Конституцией в саратовском проекте идея социального единства занимает гораздо меньше места («сохранение и укрепление единства» упоминается всего один раз в общем перечислении). Выражение «граждане Российской Федеративной Республики» более корректно, чем «многонациональный народ», но использование множественного числа не создает впечатления, что речь идет о едином субъекте.
Дальнейший текст действующей Конституции РФ также переполнен аналогичными напоминаниями о единстве в его различных аспектах: о суверенитете, распространяющемся на всю территорию страны (ч. 1 ст. 4); об обеспечении государством своей целостности и неприкосновенности (ч. 3 ст. 4); о государственной целостности и единстве системы государственной власти как принципах федеративного устройства (ч. 3 ст. 5); о единстве российского гражданства (ч. 1 ст. 6); о единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств (ч. 1 ст. 8); о запрете объединений, угрожающих целостности государства (ч. 5 ст. 13); о применении Конституции на всей территории страны (ч. 1 ст. 15); об установлении основ единого рынка на федеральном уровне (п. «ж» ст. 71); о недопустимости установления таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории России (ч. 1 ст. 74); о единой системе исполнительной власти (ч. 2 ст. 77) и т. п.
В самом тексте Конституции прямо названо еще одно интегрирующее начало – Президент Российской Федерации. Именно он несет на себе основную нагрузку по обеспечению единства: принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80); торжественно дает присягу защищать суверенитет и целостность государства (ч. 1 ст. 82). Тот же смысл имеет символическое упоминание о «согласительных процедурах», применяемых Президентом для разрешения разногласий между органами власти (ч. 1 ст. 85): «согласие», «согласование» во всех случаях обозначают одну из форм социального единения. Президент, по существу, является воплощением самой Конституции, выполняет одинаковые с нею функции, и это вполне отвечает традициям российского общества, которое охотнее интегрируется вокруг человеческой личности, чем вокруг юридического текста.
Список литературы Правовая форма как интегрирующее начало
- Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности/Я. Ассман. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -368 с.
- Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре/А. К. Байбурин. -СПб.: Нация, 1993. -237 с.
- Барт, Р. Избранные работы: Семиоти-ка. Поэтика/Р. Барт. -М.: Прогресс, 1989. -616 с.
- Блок, М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королев-ской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии/М. Блок. -М.: Языки русской культуры, 1998. -709 с.
- Вопленко, Н. Н. Правовая символика/Н. Н. Вопленко//Правоведение. -1995. -№ 4-5. -С. 71-73.
- Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского/Т. Гоббс//Сочинения: в 2 т. Т. 2. -М.: Мысль, 1991. -731 с.
- Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры/А. Я. Гуревич. -М.: Кучково поле, 1972.
- Данте Алигьери. Монархия/Данте Алигьери. -М.: [Б. и.], 1999. -192 с.
- Жирар, Р. Насилие и священное/Р. Жирар. -М.: Новое лит. обозрение, 2000.
- Малинова, И. П. Философия права (от метафизики к герменевтике)/И. П. Малинова. -Екатеринбург: УГЮА, 1995.
- Саратовский проект Конституции России. -М.: Формула права, 2006. -64 с.
- Яворский, Д. Р. Природа как символ единства: Становление натуралистической парадигмы социокультурного универсализма в западноевропейской философии/Д. Р. Яворский. -Волгоград: ВАГС, 2007. -164 с.
- Ямпольский, М. Физиология символичес-кого/М. Ямпольский. -М.: Новое лит. обозрение, 2004. -Кн. 1. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старо-го режима. -808 с.