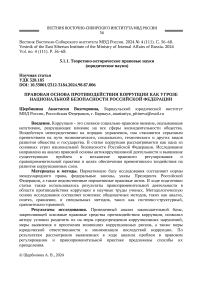Правовая основа противодействия коррупции как угрозе национальной безопасности Российской Федерации
Автор: Щербинина А.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Коррупция - это сложное социально-правовое явление, оказывающие негативное, разрушающее влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Воздействуя непосредственно на порядок управления, она становится серьезным препятствием на пути экономического, социального, технического и других видов развития общества и государства. В статье коррупция рассматривается как одна из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации. Исследование направлено на анализ правовой основы антикоррупционной деятельности и выявление существующих проблем в механизме правового регулирования и правоприменительной практике в целях обеспечения превентивного воздействия на развитие коррупционных схем.
Коррупция, угроза национальной безопасности, правовые средства противодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/143183693
IDR: 143183693 | УДК: 328.185 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.98.87.006
Текст научной статьи Правовая основа противодействия коррупции как угрозе национальной безопасности Российской Федерации
В соответствии с действующим законодательством, под национальной безопасностью понимается состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внутренних и внешних угро з1. К национальным интересам в свою очередь относятся объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии.
Учитывая, что коррупция оказывает разрушающее влияние на все сферы жизнедеятельности общества, ее, бесспорно можно назвать серьезной угрозой национальной безопасности страны. Кроме того, существование коррупционных практик во всех эшелонах власти, в правоохранительных органах и в целом укоренение коррупции в социальной сфере снижает эффективность деятельности государства по противодействию и другим угрозам национальной безопасности, таким как экстремизм, терроризм, организованная преступность и т. д.
Особое значение антикоррупционной деятельности подчеркнуто и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, и в иных документах, таких как Концепция общественной безопасности в Российской Федераци и2, в которой отмечено, что «несмотря на формирование в Российской Федерации соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространённости этого явления продолжает оставаться высоким».
Действительно, уже несколько десятилетий научным сообществом и органами государственной власти ведется активная работа по формированию правовой основы противодействия коррупции. В частности, сегодня уже функционирует целый комплекс правовых и организационных средств, направленных на снижение количества коррупционных проявлений. Вместе с тем, нормативная регламентация основ противодействия коррупции носит разрозненный характер. Нормы права, закрепляющие антикоррупционные меры, содержатся как в федеральном законодательстве, так и в законодательстве субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Все это размывает общую картину антикоррупционного законодательства, препятствует формированию единой системы противодействия коррупции, понятной как для государственных служащих, так и для граждан.
Вопрос о необходимости систематизации антикоррупционного законодательства поднимался Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации еще в 2019 году на Восьмом Евразийском антикоррупционном форуме. Тогда Т. Я. Хабриева указывала на то, что «наращивание нормативно-правовой базы во многом носит спонтанный характер и отрицательным образом сказывается на системности не только антикоррупционного, но и законодательства в целом» [1, с. 17]. Задача по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы заложена и в Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 год ы1.
Быстрый и отчасти хаотичный прирост нормативной базы антикоррупционной направленности не позволяет качественно улучшить правоприменительную деятельность и достичь главной цели – повышения эффективности борьбы с коррупцией до должного уровня. Появляются коллизии в праве, и как отмечают отдельные авторы «ослабевает корреляция между числом адресатов антикоррупционных норм и результативностью их применения» [1, с. 17].
В данной связи представляется актуальным исследование, направленное на изучение основных правовых механизмов противодействия коррупции, с установлением существующих пробелов, коллизий в праве, а также эффективности указанных средств.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, международные договоры Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В указанных нормативных документах закреплены основы механизма государственного управления, базирующегося на системе сдержек и противовесов, которая сама по себе уже является признанным средством противодействия коррупции, а также иные антикоррупционные меры. Однако организационные основы более подробно в настоящем исследовании мы не будем рассматривать, а сосредоточим внимание на специфических средствах противодействия коррупции, разработанных для превентивного антикоррупционного воздействия.
Одним из основополагающих и давно существующих средств выступает юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
Пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции »1 установлено, что «граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Основным критерием отграничения преступлений, административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов служит уровень общественной опасности деяния, который зависит как от умысла должностного лица, так и от причиненного в результате деяния ущерба.
Вместе с тем, ни уголовное, ни административное, ни гражданско-правовое законодательство Российской Федерации не предусматривают самостоятельного состава правонарушения в виде коррупции [2, с. 58]. В научной среде и правоприменительной практике также отсутствует единое мнение относительно перечня правонарушений коррупционной направленности. По мнению ряда авторов, исчерпывающий перечень коррупционных видов деятельности привести невозможно [2, с. 23–24].
Единственным нормативным актом, позволяющим привести к одному знаменателю статистические данные хотя бы в части коррупционных преступлений, является Указание Генпрокуратуры России № 361/11, МВД России № 1 от 30.06.2022 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». При этом, если одни составы преступлений могут быть отнесены однозначно к коррупционным деяниям без дополнительных условий, то другие относятся к таковыми только при наличии определенных условий.
На основе анализа Уголовного кодекса Российской Федерации, указанного выше ведомственного нормативного правового акта, а также разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2 мы можем сделать вывод о том, что в уголовно-правовом законодательстве к коррупционным деяниям, как правило, относят действия, совершенные специальным субъектом из корыстной или иной личной заинтересованности вопреки законным интересам общества и государства, а также действия, направленные на склонение указанного лица к нарушению своих непосредственных обязанностей в пользу подкупающей стороны, или посредничество между сторонами коррупционного отношения.
Не существует и законодательно закрепленного понятия административного правонарушения коррупционной направленности. В отличие от уголовно-наказуемых деяний данной категории, в отношении административных правонарушений отсутствуют и какие-либо подзаконные нормативные правовые акты, закрепляющие перечень административных коррупционных правонарушений. Так же обстоят дела и с дисциплинарными проступками, гражданско-правовыми деликтами, содержащими коррупционный фактор.
На наш взгляд, сформировать представление об административных правонарушениях коррупционной направленности можно лишь путем проведения системного анализа норм КоАП РФ через призму основных теоретико-правовых положений о понятии, сущности и содержании коррупции, в результате чего к таковым можно отнести более десятка правонарушений (в частности, ст. 5.16 «подкуп избирателей, участников референдума»; ст. 15.14 «нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов»; ст. 19.28 «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и т. п.).
Среди мер гражданско-правовой ответственности наибольшее внимание привлекают правовые положения Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам »1, а также статьи 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции», закрепляющие полномочия прокурора на осуществление контроля за доходами и расходами должностных лиц и право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства с заявлением об изъятии в доход Российской Федерации имущества, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
Сегодня указанный правовой институт находится в стадии активного развития, о чем свидетельствует нарастающая статистика по количеству изъятого незаконно нажитого имущества чиновников. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с момента предоставления соответствующих полномочий (с 01.01.2013) по 31.03.2019 «прокурорами инициировано свыше 1,5 тыс. процедур контроля, в суды предъявлено 140 исковых заявлений об обращении в доход Российской Федерации объектов имущества, в отношении которых чиновниками не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, из них судами удовлетворено 82 заявления на совокупную стоимость имущества в размере, превышающем 14 млрд. руб.» 2 . В свою очередь, по итогам 2023 года в интервью информационному агентству «Интерфакс» Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что «в результате работы ведомства по изъятию незаконно нажитого имущества чиновников-коррупционеров всего в 2023 году суды удовлетворили иски прокуратуры на 400 млрд руб., большую часть этих средств уже взыскали в госбюджет »3.
В ходе реализации указанного механизма противодействия коррупции выявлялись различные схемы ухода правонарушителей от ответственности, в частности перепродажа собственности в добросовестное владение третьих лиц, а также увольнение со службы. Последнее не позволяло органам прокуратуры инициировать проверку в отношении уволенных должностных лиц. В результате закон был дополнен нормами, позволяющими осуществлять такой контроль в течение шести месяцев со дня увольнения лица (или его освобождения от занимаемой должности). Кроме того, была предусмотрена возможность обращения в доход государства денежной суммы, эквивалентной стоимости имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, при отсутствии возможности обращения в доход государства такого имущества.
В контексте рассматриваемого правового средства противодействия коррупции, стоит отметить об актуальной дискуссии о необходимости дополнения гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за необоснованное обогащение мерами уголовно-правового воздействия, что в целом согласовывалось бы с положениями международного законодательства, в частности с положением статьи 20 Конвенции ООН против коррупци и1. В 2017 году в Государственную Думу Российской Федерации инициативной группой даже был внесен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции» 2 , который был отклонен в первом чтении. В научном сообществе высказывается небезосновательное опасение о противоречии подобной нормы права основным принципам уголовного законодательства, в частности принципу презумпции невиновности. В качестве альтернативного решения предлагается «параллельно с понятием «презумпция невиновности» ввести понятие «презумпция невиновности за незаконное обогащение, когда активы должностного лица многократно превышают его законные и задекларированные доходы», установив обязанность обвиняемого (подсудимого) в коррупции должностного лица доказать на следствии и в суде легитимность и законность полученных им доходов или имущества» [3, с. 101]. По мнению, Н. В. Щедрина, «подобная корректировка возможна, учитывая, что лицо, добровольно поступающее на службу, соглашается со всеми ограничениями конституционных прав и свобод, имманентных публичному статусу» [4, c. 71].
Введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, учитывая современное состояние правоохранительной системы, уголовно-правовой и уголовно- процессуальной базы, на наш взгляд представляется весьма рискованным. Указанное нововведение потребует качественно нового пересмотра уголовно-процессуальной деятельности. Полагаем, что такая норма либо рискует остаться «мертвой», не получив реализации на практике без достаточного уровня государственной воли, либо приведет к подмене уголовным преследованием за необоснованное обогащение, преследования за такие коррупционные преступления как получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, присвоение и растрата и др. Это будет обусловлено сниженными требованиями к доказыванию объективной стороны преступления, что считаем не допустимым и противоречащим базовым принципам российской правовой системы.
Еще одним видом коррупционного поведения являются дисциплинарные проступки, т. е. противоправные деяния, связанные с нарушением требований норм, установленных внутри ведомств, организаций, предприятий, норм права, закрепленных в Федеральном законе «О противодействии коррупции», призванных оказывать профилактическое антикоррупционное воздействие. Примером дисциплинарных проступков коррупционной направленности могут служить нарушения требований о декларировании доходов и разрешении конфликта интересов, несоблюдение запретов и ограничений в связи с замещаемой должностью и т. д. По мнению отдельных авторов, «меры дисциплинарной ответственности должны применяться всегда, независимо от привлечения к материальной, административной (или даже уголовной) ответственности» [2, с. 368]. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию было привлечено 50 тыс. чиновников, а более 500 уволили в связи с утратой довери я1.
Специфическим правовым средством противодействия коррупции, которое можно отнести к мерам дисциплинарной ответственности, является увольнение (освобождению от должности) в связи с утратой доверия. Его применение возможно предусмотренных законом случая (ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
Анализ оснований увольнения должностного лица в связи с утратой доверия позволяет говорить о том, что они возникают в результате нарушения установленных в целях реализации антикоррупционной политики обязанностей, ограничений и запретов для государственных служащих.
Еще одним правовым средством профилактики коррупционных правонарушений является предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе в целях обеспечения непредвзятого, беспристрастного и объективного исполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственной власти.
Наличие указанного элемента противодействия коррупции в российском законодательстве в целом согласуется с общемировыми тенденциями антикоррупционной политики и законодательством многих зарубежных государств (Япония, США, Канада и др.) [2, с. 353].
-
А. А. Бабкин отмечает, что «основным конфликтогенным признаком выступает наличие или возможность возникновения противоречия между личными интересами государственного (муниципального) служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации или ее субъекта» [5, с. 252].
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
»1.
Под личной заинтересованностью в антикоррупционном законодательстве понимается «возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом или иными лицам, связанными с ним близкими отношениями. Как мы видим, в данном случае законодатель наряду с имущественной выгодой предусмотрел и иные преимущества, что, несомненно, актуально для такого механизма противодействия коррупции, как урегулирование конфликта интересов, в частности для борьбы с таким видами коррупции, как протекционизм, кумовство, непотизм и т. д.
Вместе с тем, как справедливо отмечает Ю. В. Анохин, введение понятия «личная заинтересованность» в привязке к конфликту интересов поставило под угрозу уничтожения профессиональные династии. Автор акцентирует внимание на том, что «родственникам или супругам создается препятствие прохождения службы в порядке соподчиненности, т. к. возможно что-то, а не сам факт противоправного деяния» [6, с. 8]. Данный аспект рассматриваемого механизма весьма актуален для государственных и муниципальных служащих. Нередки случаи, когда семейные союзы создаются в процессе осуществления профессиональной деятельности. В результате, несмотря на профессиональные качества, один из супругов вынужден полностью отказаться от служебной карьеры в конкретном ведомстве или органе государственной власти. Особенно остро такой вопрос возникает на муниципальном уровне, где численность населения и возможные варианты перемещения на государственной службе и в пределах одного ведомства существенно ограничены.
Полагаем, что способствовать разрешению этой проблемы может устранение «правовой размытости» содержательной стороны конфликта интересов и более детальная регламентация индикаторов вероятного нарушения необходимого соотношения личных и публичных интересов. Также для повышения эффективности указанного антикоррупционного механизма считаем необходимым усовершенствовать порядок мониторинга, направленный на выявление фактов неурегулированного конфликта интересов, привлекая к этому в том числе и институты гражданского общества, и в целом граждан. В этом вопросе актуально будет информирование населения о признаках, свидетельствующих о нарушении антикоррупционного законодательства, а также о способах их пресечения. В этом контексте, на наш взгляд, новую актуализацию с расширением функций может получить основной антикоррупционный орган, созданный для предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а именно комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Еще одним средством противодействия коррупции является процедура проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения, регламентированная Федеральным законом от
О перспективности этого направления свидетельствуют статистические данные, предоставленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации, согласно которым «в первом полугодии 2021 года прокуроры охватили антикоррупционной экспертизой почти 500 тысяч нормативных правовых актов. Было выявлено 36 тыс. нормативных правовых актов, содержавших свыше 33 тыс. коррупциогенных факторов »2.
Коррупциогенными факторами, согласно вышеуказанному Закону, являются «положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции» (п. 2 ст. 1 Закона).
В контексте рассмотрения коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах интересным представляется подход к пониманию законотворчества, согласно которому «право понимается не как деятельность по управлению обществом, а как согласование различных социальных интересов, при котором свобода одних не должна ущемлять свободы других» [7, с. 20].
По мнению И. Н. Барциц, «если понимать законотворческий процесс не как определение властью (большинством в парламенте) правил поведения, а как согласование различных социальных интересов, то коррупциогенная норма права возникает вследствие «мутации» процесса нормотворчества, когда он перестает выявлять все правообразующие интересы» [7, с. 20].
Таким образом, одним из основных коррупциогенных факторов в нормотворческом процессе можно признать нарушение баланса интересов. В связи с этим главной целью антикоррупционной экспертизы можно определить выявление всех возможных правообразующих интересов при принятии конкретного нормативного правового акта и оценку доли преобладания одних над другими.
На основании изложенного считаем возможным рассмотрение вопроса о дополнении законодательного определения «коррупциогенные факторы» положением о нарушении баланса социальных интересов, или преобладании интересов отдельных корпораций и (или) лоббистских объединений.
Вместе с тем, важно отметить, что сама процедура проведения антикоррупционной экспертизы весьма трудоемкая и требует большого временного ресурса. Особенно это актуально в связи с изложенным в Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы положением о возможном расширении требования производства антикоррупционной экспертизы своих локальных нормативных актов и проектов таких актов на коммерческие и некоммерческие организации с государственным участием1.
Решение указанной проблемы научное сообщество видит во внедрении инструментов автоматизации, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта [8, с. 51]. Вместе с тем, отмечается, что «при проведении экспертизы с помощью искусственного интеллекта может быть подготовлено необходимое заключение, однако соответствующему лицу необходимо провалидировать данные, полученные с использованием программно-аналитического модуля, а также при необходимости внести соответствующие корректировки» [8, с. 51]. Это обуславливает необходимость повышения уровня соответствующих компетенций лиц, которые непосредственно проводят антикоррупционную экспертизу.
Таким образом, проведенный анализ правовых средств противодействия коррупции позволил нам условно разделить их на меры предупреждения коррупционных нарушений, меры выявления и пресечения возникших коррупционных рисков, а также меры юридической ответственности и минимизации последствии коррупции.
К правовым средствам (мерам) предупреждения, на наш взгляд, относятся установленные запреты, ограничения и обязанности, призванные минимизировать коррупционные риски на государственной службе. К таковым, в частности, относятся: запрет открывать и иметь счета в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами; запрет на осуществление предпринимательской деятельности, обязанность отдельных категорий должностных лиц предоставлять сведения о доходах и расходах; обязанность уведомлять о склонении к коррупции и др.
В свою очередь, такие правовые механизмы, как порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, выполняют контрольную функцию, а также направлены на разрешение ситуаций с высоким коррупционным риском в целях недопущения негативных последствий.
И в качестве факультативной стадии выступает юридическая ответственность, которая наступает в случае нарушения антикоррупционного законодательства. При этом наряду с уголовной и административной ответственностью российским законодательством установлена гражданско-правовая и дисциплинарная (в частности, такие специфические их виды, как изъятие в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана должностным лицом, а также увольнение со службы в связи с утратой доверия соответственно).
В заключение следует отметить, что правовая основа противодействия коррупции на современном этапе несовершенна, она находится в стадии активного развития. В настоящее время уже законодательно закреплены основополагающие правовые средства противодействия коррупции. Но вместе с тем, обнаруживаются и ряд пробелов, коллизий, которые вскрываются в ходе правоприменительной деятельности. Считаем, что процесс противодействия коррупции является непрерывным и должен совершенствоваться ускоренными темпами, чтобы оказывать превентивное воздействие на развитие новых коррупционных практик и закрывать лазейки в законодательстве, используемые коррупционерами.
Список литературы Правовая основа противодействия коррупции как угрозе национальной безопасности Российской Федерации
- Хабриева, Т. Я. Право против коррупции: миссия и новые тренды: сб. мат-лов Восьмого Евразийского антикоррупционного форума, Москва, 20 марта 2019 года / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: ООО "Издательский дом "Юриспруденция", 2020. 256 с. EDN: LSYLYK
- Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. академик РАН Т. Я. Хабриева. М.: ИД "Юриспруденция", 2012. 688 с. EDN: QYHOUD
- Моисеев, В. П., Моисеева, А. В. Незаконное обогащение как угроза национальной безопасности России // Обеспечение национальной безопасности России в современном мире: мат-лы междунар. науч.-практ. конф.: Иркутск, 26-27 мая 2016 года / Министерство образования и науки Российской Федерации; Байкальский государственный университет. Иркутск: БГУ, 2016. С. 97-103. EDN: WNMPMZ
- Щедрин, Н. В. Проблемы и перспективы криминализации незаконного обогащения публичных должностных лиц // Имущественные отношения в Российской Федерации: науч. журн. 2018. №12 (207). С. 62-75.
- Бабкин, А. А. Правовые средства противодействия коррупции в современном обществе // Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы Казахстана: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рождения министра внутренних дел Казахской ССР, государственного и общественного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию столицы республики Казахстан: Астана, Костанай, 26 октября 2018 года. Костанай: Костанайская академия МВД Республики Казахстан, 2018. С. 251-254. EDN: ZATANN
- Анохин, Ю. В. Предотвращение конфликта интересов как средство противодействия коррупции: теоретико-правовой аспект // Алтайский юридический вестник: науч. журн. 2020. № 1 (29). С. 7-10.
- Барциц, И. Н. Антикоррупционная экспертиза в системе эффективного правотворчества (к разработке методики проведения антикоррупционной экспертизы) // Государство и право: науч. журн. 2010. № 9. С. 16-25.
- Развитие антикоррупционного законодательства и комплаенса в новых условиях: Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / Е. А. Артеменко, Р. О. Долотов, Э. А. Иванов и др. М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2023. 58 с. EDN: ILFNAL