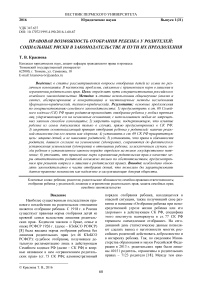Правовая возможность отобрания ребенка у родителей: социальные риски в законодательстве и пути их преодоления
Автор: Краснова Т.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Гражданское и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматриваются вопросы отобрания детей из семьи по различным основаниям. В частности, проблемы, связанные c применением норм о лишении и ограничении родительских прав. Цель: определить пути совершенствования российского семейного законодательства. Методы: в статье использованы общенаучные (анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, технико-юридический). Результаты: основные предложения по совершенствованию семейного законодательства: 1) предусмотреть в ст. 68 Семейного кодекса (СК) РФ право родителя производить отобрание ребенка у любых третьих лиц, удерживающих его на незаконных основаниях, с использованием любых не запрещенных законом способов самозащиты; 2) закрепить норму, подчеркивающую, что изъятие ребенка из семьи допускается только в случаях, прямо предусмотренных в СК РФ; 3) закрепить основополагающий принцип отобрания ребенка у родителей: наличие реальной опасности для его жизни или здоровья; 4) установить в ст. 69 СК РФ приоритетную цель: защита детей, а не наказание родителей; 5) установить, что права и обязанности родителя, давшего согласие на усыновление (удочерение), сохраняются до фактического установления усыновления (удочерения) в отношении ребенка, за исключением случаев, когда ребенок в установленном законом порядке определен на полное государственное попечение; 6) уточнить, что применение меры ограничения родительских прав в качестве меры ответственности родителей возможно только по обстоятельствам, предусмотренным при решении вопроса о лишении в родительских правах. Выводы: необходимо обновлять законодательство в части отобрания детей, что позволило бы характеризовать данные правовые механизмы как надежные и заслуживающие доверия общества.
Ребенок, родители, родительские обязанности, семейно-правовая ответственность, отобрание ребенка у родителей, лишение и ограничение родительских прав, защита семейных прав, семейное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/147202544
IDR: 147202544 | УДК: 347.637 | DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-60-67
Текст научной статьи Правовая возможность отобрания ребенка у родителей: социальные риски в законодательстве и пути их преодоления
Наиболее существенным последствием правового воздействия на родительское отношение является отобрание ребенка. С 1918 г. в России существует правовая норма отобрания детей из кровной семьи вследствие лишения родительских прав. Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. (далее – КЗоБСО РСФСР) [8] была введена норма отобрания ребенка без лишения родительских прав (ст. 46 КЗоБСО РСФСР): судебное отобрание, получившее детальную регламентацию лишь в действующем Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) и впервые названное в нем «ограничением родительских прав» (ст. 73 СК РФ); административный
порядок отобрания ребенка, находящегося в опасной ситуации, также получивший свое развитие и название «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью» в действующем СК РФ, специфика этого института подчеркнута в ст. 77 СК РФ термином «немедленное отобрание». На сегодняшний день статистические данные позволяют сделать вывод о неготовности многих российских родителей действовать добросовестно и в интересах ребенка. Так, по сведениям Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013 г. родительских прав были лишены 40151 родитель, ограничены в родительских правах – 7123 родителя [18]. Между тем еже-
годно около 94 % отобраний детей из семьи, 90 % лишений родительских прав и 80 % ограничений в родительских правах производятся по усмотрению, в первую очередь, органов опеки и попечительства и зависят от того, как они толкуют законодательные термины [18]. В материалах практики фиксируется множество случаев необоснованного изъятия детей из семьи (из-за бедности семьи и т. п.). К примеру, по информации, представленной в Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [6], каждая пятая семья, признанная в 2012 г. находящейся в социально опасном положении и поставленная на учет в органах социальной защиты и социального обслуживания населения, была поставлена на учет по признаку многодетности. Почти каждая вторая семья, признанная в 2012 г. находящейся в социально опасном положении и поставленная на учет в органах социальной защиты и социального обслуживания населения, была поставлена на учет в связи с тем, что являлась неполной.
Основной контент
Практика отобрания детей из семьи, подрывающая авторитет родителей и связанная с произвольным вмешательством чиновников во внутренние дела семьи, ассоциируется в общественном сознании с «ювенальной юстицией». Это мнение, по утверждению многих ученых, представляется ошибочным [16], однако получает широкое распространение. Общество активно выражает протест «ювенальным технологиям», особенно в связи с такими трагичными случаями, как дело Ларисы Шадриной (г. Тюмень), взятое по просьбе общественных организаций г. Тюмени под контроль уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. После изъятия четверых из пяти детей в августе прошлого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми). Вскоре после очередного заседания суда она умерла. Детей вернули овдовевшему отцу [4]. Отметим, что о необоснованности изъятия детей в этом случае свидетельствовали факты, озвученные в рамках регионального родительского собрания на тему «Актуальные вопросы защиты прав и интересов семьи и детей в Тюменской области» 7 сентября 2015 г. (г. Тюмень), где основным докладчиком была Председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка О.В. Леткова [15].
Безусловно, опора на уже существующие основополагающие начала семейного законода- тельства позволила бы представителям контролирующих органов быть бережным по отношении к семье в принятии правовых решений. Между тем существует острая необходимость в переосмыслении неоднозначных в трактовке положений законодательства, содержащих в себе, как было сформулировано Президентом России В.В. Путиным, явные социальные риски [3]. Такова ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [11]. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается социальное сопровождение. При этом, согласно ст. 15 указанного закона, семья признается нуждающейся в социальном облуживании, в частности при наличии в семье ребенка, испытывающего трудности в социальной адаптации, наличии семейного конфликта и т. п. Данные формулировки трактуются широко и их реализация зависит в полной мере от компетентности, человеческих качеств и субъективного опыта соответствующих чиновников. Отметим, что закон не требует согласия получателя услуг на социальное сопровождение семьи. К тому же, многие специалисты сходятся во мнении о том, что «большинство родителей подпишут любое заявление, лишь бы не потерять своего ребенка либо необходимую социальную помощь» [2]. Согласимся, что, преследуя благие цели, обсуждаемый нормативный правовой акт «открывает двери» государственным органам в жизнь практически любой семьи.
Также неоправданно широкие формулировки содержит Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [10]. Например, в ст. 1 этого закона определяется понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении»: это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Таким образом, семьей, в которой родители, по мнению представителей государственных органов, не исполняют обязанности по воспитанию или отрицательно влияют на их поведения, фактически является любая семья.
Продолжая анализ ряда недопустимо широких формулировок, позволяющих государственным органам рассматривать каждую семью в качестве неблагополучной, стоит поддержать противников проекта Федерального закона «О предупреждении и профилактике семейнобытового насилия» [9]: авторская интерпретация семейно-бытового насилия ставит под сомнение возможность любого способа воздействия на ребенка, ведь даже, к примеру, запрет в пользовании компьютером или телевизором охватывается содержанием термина «экономическое насилие», вида семейно-бытового насилия.
Требуют особого внимания положения СК РФ о защите родительских прав и отобрании детей как способе защиты прав несовершеннолетних. Так, ст. 68 СК РФ, устанавливающая, что родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного решения, а при возникновении спора – обратиться в суд, фактически обезоруживает родителя перед любыми третьими лицами. Формулировка «удерживающие» не дает однозначного ответа на вопрос – оказался ли ребенок во власти третьих лиц посредством изъятия его из семьи, похищен или был передан под надзор на определенный период времени самими родителями. Тем не менее вызывало бы недоумение поведение законопослушного родителя, обратившегося к похитителю с просьбой о возврате ребенка и, в случае отказа, приступившего к составлению искового заявления в суд. По нашему мнению, необходимо закрепить право родителя производить отобрание ребенка у любых третьих лиц, удерживающих его на незаконных основаниях, с использованием любых не запрещенных законом способов самозащиты, а также предусмотреть обязанность государственных органов, в частности полиции, оказывать в этом незамедлительное содействие. Целесообразны детальная выработка и закрепление механизма, позволяющего в то же время защитить ребенка от действий недобросовестного родителя в случаях, когда обстоятельства с очевидностью свидетельствую о наличии угрозы для жизни и здоровья ребенка, исходящей от родителя (по аналогии со ст. 77 СК РФ), и оперативно доводить данные конфликты до судебного разбирательства, чтобы исключить опасность для ребенка, если она не является очевидной. Полагаем, в случае удержания детей имеется публичный интерес и в рамках судебной процедуры также должен быть решен вопрос о привлечении к определенному виду ответственности третьих лиц (в зависимости от того, кто ими является – бабушка, критикующая методы родительского воспитания, в действиях которой нет признаков преступления, похититель, нарушивший нормы
УК РФ, или должностное лицо, превысившее свои полномочия).
Статья 121 СК РФ содержит широкий перечень обстоятельств, вследствие которых дети относятся к оставшимся без попечения родителей. Для защиты нарушенных прав детей, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и попечительства наделены специальными полномочиями, толкуемыми в ряде практических случаев широко. Представляется целесообразным закрепление в ст. 121 СК РФ специальной нормы, подчеркивающей, что изъятие ребенка из семьи допускаются только в случаях, прямо предусмотренных в СК РФ. СК РФ предусматривает только один случай отобрания ребенка из семьи в административном порядке -при непосредственной угрозе его жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ), при этом органам опеки и попечительства предписано в установленные сроки инициировать судебную процедуру лишения или ограничения родительских прав. Следовательно, отобрание не может быть способом защиты детей, применяемым органом опеки при создании родителями условий, «препятствующих их нормальному воспитанию и развитию», а также в случаях болезни родителей, уклонения их от воспитания детей или от защиты их прав и интересов (что, в соответствии со ст. 121 СК РФ, также позволяет считать детей, оставшимися без попечения родителей).
Существует необходимость конкретизации критериев применения меры отобрания ребенка. Прежде всего, для всех случаев отобрания детей важно установление факта опасности обстановки, созданной родителями (одним из них). А.М. Нечаева подчеркивает ситуационный характер степени опасности: «Маленький и беспомощный ребенок может погибнуть, тяжело заболеть, если останется даже на короткий срок один. Для подростка, обладающего относительной самостоятельностью, наибольшую опасность обычно представляет асоциальное окружение его родителей, их стремление использовать несовершеннолетнего в достижении своих асоциальных целей. Следовательно, характер опасности, ее значение в жизни ребенка определяются в каждом конкретном случае. И вовсе не обязательно, чтобы ее негативный результат уже наступил» [5, с. 98]. Думается, что механизм определения степени опасности должен быть создан в процессе самостоятельного исследования с участием представителей психологической науки. В основу исследования должно быть положено понимание сложившейся в семье негативной ситуации именно как опасности с учетом этимологического значения термина «опасный», как «требующий защиты», а не
«требующий осторожности» [17]. Важно понимать, что совместное переживание неблагоприятных обстоятельств, сложившихся в отдельно взятой семье, может иметь менее вредные последствия для физиологического и психического развития ребенка, чем его отобрание у родителей: «…разъединение ребенка и родителя – это колоссальная травма для ребенка, даже если его потом вернут в семью…детям важнее быть со своими близкими, под защитой своих родителей, даже если семья испытывает трудности и лишения» [16, с. 4]. Предлагаем закрепление в СК РФ принципа отобрания ребенка у родителей лишь при наличии реальной опасности для его жизни и здоровья.
Рассматривая лишение родительских прав как наказание для родителей, важно учитывать основную и приоритетную цель данного института – защита прав детей. Представляется оправданным закрепление данного целеполагания в качестве принципа в ст. 69 СК РФ для последующей оценки обстоятельств в качестве оснований для лишения родительских прав исходя из данного принципа. Существующие в ст. 69 СК РФ основания не классифицируются по какому-либо критерию и на практике могут быть выявлены в совокупности. Мы предлагаем следующие уточнения.
Так, в отношении основания об отказе родителей взять своего ребенка из родильного дома и т. д. сформировалась практика, поощряющая такое явление, как злоупотребление родителями правом и в целом формирующая негативную тенденцию. Речь идет о двух случаях противоправного оформления родителями согласия на усыновление (удочерение) их ребенка.
Во-первых, в целях оформления так называемого «отказа от ребенка», – данное явление получило широкое распространение и служит причиной заблуждения многих граждан о принципиальной юридической возможности подобного отказа от ребенка. Во-вторых, для того чтобы избежать лишения родительских прав и принуждения к обязанности содержать своего ребенка. Приведем пример судебного решения, без обсуждения его обоснованности, показывающий тот юридический путь, которым могут быть защищены интересы и недобросовестного родителя. В мотивировочной части решения указано, что права и обязанности родителей в отношении родившегося у них ребенка-инвалида были прекращены посредством оформления отказа от ребенка и дачи согласия на его удочерение, а при таких обстоятельствах бездействие ответчиков по исполнению своих родительских обязанностей в отношении дочери Ф.О. не может расцениваться как основание для лишения их родительских прав и взыскания алиментов на ее содержание [14]. Данное техническое действие может быть произведено любыми родителями, «претендующими» на лишение родительских прав, во избежание негативных имущественных последствий. Думается, что в СК РФ необходимо скорректировать положение ст. 129, указав, что права и обязанности родителя, давшего согласие на усыновление (удочерение), сохраняются до фактического, юридически оформленного, усыновления (удочерения) ребенка, за исключением случаев, когда ребенок в установленном законом порядке помещен на полное государственное попечение.
Для применения такого основания, как злоупотребление родительскими правами, также следует установить приоритеты. Представляются спорными и теоретизированными предложения о привлечении к семейно-правовой ответственности по данному основанию родителей, которые не исполняют обязанностей по защите детей от негативной информации. А именно, по мнению А.К. Поляниной, злоупотребляют родительскими правами граждане путем совместного просмотра кинофильмов, запрещенных для детей [13, с. 37]. Скорее всего, последствия лишения его родителей родительских прав будут тяжелее для ребенка, чем соблюдение его права на защиту от деструктивной информации. Маловероятно, что пребывание в детском доме приведет к более гармоничному развитию его личности.
Заключение
Жестокое обращение само по себе является оценочным понятием за пределами действий, содержащих в себе состав преступления (покушение на половую неприкосновенность и др.). Могут ли быть выявлены факты жестокого обращения в методах воспитания (закаливание, плотный учебный график, привитие поклонения определенной культуре) – вопрос дискуссионный. Социальные риски минимизируются с учетом принципов de lege ferenda – приоритета защиты детей при лишении их родителей родительских прав и отобрании ребенка лишь при наличии реальной опасности для его жизни или здоровья. Для применения такого основания лишения родительских прав, как заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией, на практике чаще всего устанавливается факт регистрации на учете в соответствующей медицинской организации. Думается, что в судебном процессе о лишении родительских прав по данному основанию должен быть задействован более широкий круг доказательств. Многие ученые предлагают закрепить в ст. 69 СК РФ в ка- честве достаточного основания установление судом факта злоупотребления родителем алкоголем или наркотическими веществами, даже если оно не является хроническим, так как сам факт такого злоупотребления наносит вред психическому здоровью ребенка [1, с. 4]. Данный подход заслуживает поддержки с учетом того, что выработка легального определения понятия «хронический алкоголик» и т. п. на сегодняшний день представляется затруднительным. С другой стороны, все больше специалистов склоняются к установлению причинной связи между действиями родителя и негативными последствиями для ребенка, чтобы исключить наступление ответственности без вины [7, с. 101]. Данное предложение согласуется с приоритетной целью лишения родительских прав – не наказать родителя, а защитить ребенка, соответствует принципу укрепления семьи и, полагаем, должно найти отражение в ст. 69 СК РФ. Последнее основание ст. 69 СК РФ – совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей или здоровья супруга – с учетом разъяснений Конституционного суда РФ от 21 ноября 2013 г. № 1834-О [12] применяется без учета регулирования вопросов судимости и ее погашения. В этой связи данное основание приобретает специфику по сравнению с остальными положениями ст. 69 СК РФ, поскольку исключает возможность восстановления в родительских правах, и может стать предметом научной дискуссии.
В части ограничения родительских прав необходимо уточнить вопрос оснований применения нормы ограничения в правах как меры ответственности родителей, когда речь идет о взаимосвязи ограничения с лишением родительских прав – «если не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав» (ст. 73 СК РФ). В комментарии разработчиков СК РФ сказано, что «подобного рода разъяснение предназначено как для лиц, желающих выступить в роли истца, так и для суда, рассматривающего дело по существу» [5, с. 98]. При этом формулировка «не установлены в достаточной степени» предполагает, что такие основания в принципе должны быть установлены судом, но суд пришел к выводу об отсутствии в них достаточной степени значимости для возложения на родителей крайней меры ответственности (как пишет А.М. Нечаева – достаточной степени злостности) [5, с. 98]. До истечения шести месяцев орган опеки и попечительства (независимо от того, кем был подан иск об ограничении родительских прав) обязан предъявить иск о лишении данных родителей их прав, если они не изменят своего пове- дения. Важно, что перечень оснований для лишения родительских прав является исчерпывающим (ст. 69 СК РФ). Допустимость возможности ограничения родительских прав по любым иным основаниям и последующее лишение родительских прав по тем же основаниям («если родители не изменят своего поведения» – п. 2 ст. 73 СК РФ) приводила бы к тому, что лишение родительских прав производилось бы только по основаниям, закрепленным ст. 69 СК РФ, а также вследствие любого виновного поведения родителей, если лишению родительских прав предшествовало ограничение родителей в их правах. Полагаем, что для крайней меры ответственности установление таких безграничных оснований является недопустимым. В этой связи должен быть сделан еще один важный вывод: мера ограничения родительских прав, если не установлены достаточные основания для лишения родительских прав, может быть применена только по обстоятельствам в рамках перечня ст. 69 СК РФ. Соответствующее уточнение может быть включено в ст. 73 СК РФ.
Законодатель должен совершенствовать правовые инструменты, что позволяет спасать детей, находящихся в серьезной опасности, исходящей от их родителей. Необходимо обновлять правовые механизмы регулирования конфликтной ситуации в целях гармонизации семьи – главной ценности гражданского сообщества.
Список литературы Правовая возможность отобрания ребенка у родителей: социальные риски в законодательстве и пути их преодоления
- Афанасьева И.В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних при неисполнении родительских обязанностей по их воспитанию и содержанию//Семейное и жилищное право. 2014. № 5. С. 3-6.
- Виноградова Л.Н. Промежуточные результаты мониторинга исполнения ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: http://www.monitoring_socobsluzhivanie03082 015/(дата обращения: 11.10.2015).
- Выступление В.В. Путина на съезде родителей России: офиц. сетевой ресурс Президента Российской Федерации. URL: http://www. kremlin.ru/events/president/news/17469 (дата обращения: 11.10.2015).
- Изъятие детей и фальсификация дела привели к смерти//Информ. портал Рос. информ. агентства. URL: http://ivan4.ru/~IYsy6 (дата обращения: 11.10.2015).
- Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный)/под ред. И.М. Кузнецовой. М.: БЕК, 2002. 512 с.
- Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года (общественный проект). Ч. 1/сост. Е.Б. Мизулина и др. URL: http://www.komi-tet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/05004912405305 6052. html (дата обращения: 11.10.2015).
- Мардахаева П.Н. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности: дис. канд. юрид. наук. М., 2005. 189 с.
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: указ Президиума Верхов. Совета РСФСР от 12 февр. 1968 г. (утратил силу)//Ведомости ВС РСФСР. 1986. № 7, ст. 252.
- О предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия : законопроект Фед. закона. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (по сост. на 13 июля 2015 г.)//Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26, ст. 3177.
- Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52, Ч. I, ст. 7007.
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брусликова Бориса Васильевича на нарушение его конституционных прав положением статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации : определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 21 нояб. 2013 г. № 1834-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Полянина А.К. Семейно-правовая ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению информационной безопасности детей//Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 34-38.
- Постановление Президиума Челябинского областного суда от 18 янв. 2012 г. по делу № 44г-3/2012 . Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Резолюция регионального родительского собрания на тему «Актуальные вопросы защиты прав и интересов семьи и детей в Тюменской области» (7 сент. 2015 г., г. Тюмень). Тюмень, 2015. 2 с.
- Хазова О.А. Отобрание детей: международно-правовые аспекты//Семейное и жилищное право. 2014. № 2. С. 18-23.
- Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2004. 398 с.
- Экспертное заключение по проекту Концепции совершенствования семейного законодательства Российской Федерации и предложений по совершенствованию семейного законодательства Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 июля 2014 г. № 132-1/2014) . Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».