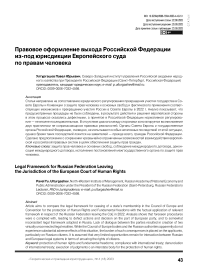Правовое оформление выхода Российской Федерации из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека
Автор: Ултургашев П. Ю.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья направлена на сопоставление юридического регулирования прекращения участия государства в Совете Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод и фактического применения соответствующих механизмов к прекращению участия России в Совете Европы в 2022 г. Анализ показывает, что предусмотренные процедуры не были соблюдены, в результате действия и решения европейской стороны в этом процессе оказались дефектными, а принятое в Российской Федерации нормативное регулирование - не вполне последовательным. В отсутствие диалога между сторонами констатируется возникновение двух практически не соприкасающихся правовых реальностей. Органы Совета Европы и государственные органы Российской Федерации, очевидно, не испытывают особых негативных последствий от этой ситуации, однако бремя таких последствий ложится на заявителей - прежде всего, граждан Российской Федерации. Сделано предположение о сохранении чрезвычайно ограниченных возможностей взаимодействия европейской и российской правовых систем в целях обеспечения защиты прав граждан.
Защита прав человека и основных свобод, соблюдение международного договора, денонсация международного договора, исполнение постановлений межгосударственного органа по защите прав человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14129383
IDR: 14129383 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-4-43-51
Текст научной статьи Правовое оформление выхода Российской Федерации из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека
Завершение процедуры принятия Федерального закона «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы»1 и сопутствующие заявления руководства страны2 снимают последние сомнения относительно принципиального «развода» Российской Федерации и Совета Европы (далее — СЕ). Конечно, концептуальные вопросы участия или неучастия в международной организации в своей основе являются политическими, и вряд ли уместно дискутировать о целесообразности или неизбежности этого шага. С другой стороны, предшествовавшие денонсации договоров Совета Европы действия и решения, равно как и реакция на прекращение участия Российской Федерации в СЕ, не могли не получить правового оформления, которое вполне поддается анализу. Основываясь на изложенных соображениях, автор в данной работе рассматривает, во-первых, процесс прекращения участия Российской Федерации в СЕ с точки зрения процедуры, предусмотренной Уставом этой организации; и во-вторых — отечественное законодательное регулирование выхода России из СЕ, а также некоторые его правовые последствия.
Выход Российской Федерации из Совета Европы: требования устава организации и действия сторон
Вопрос о дате прекращения участия в СЕ и в Конвенции решен сторонами однозначно, но совершенно по-разному. От определения соответствующей даты в данном случае зависит момент окончания обязательств по Конвенции (по версии СЕ — также период, когда исполнение таких обязательств может быть предметом рассмотрения ЕСПЧ).
10 марта 2022 г. на официальном сайте МИД России было опубликовано заявление Министерства о ситуации в СЕ3. Несмотря на принципиальную важность этого заявления, вряд ли можно считать его уведомлением СЕ о намерении России выйти из его состава, как это интерпретируется некоторыми авторами4, поскольку ст. 7 Устава СЕ требует «официального уведомления о своем намерении Генерального секретаря»5.
Такое уведомление, как следует из Резолюции Комитета министров Совета Европы (далее — КМСЕ) от 16 марта 2022 г. CM/Res(2022)26, направлено Генеральному секретарю 15 марта 2022 г. В этот же день на официальном сайте МИД России появилось заявление о запуске процедуры выхода из Совета Европы7. После направления уведомления, как прямо предусмотрено ст. 7 Устава СЕ, прекращение членства должно было наступить в конце текущего финансового года, то есть 31 декабря 2022 г. Можно предположить, что на национальном уровне к этому моменту следовало бы подготовить и принять закон о денонсации Устава СЕ и сопутствующих договоров (в первую очередь Конвенции), регулирующий в том числе изменения национального законодательства, обусловленные прекращением членства в международной организации.
Структуры СЕ, однако, в ускоренном порядке приняли решение об исключении Российской Федерации из организации — согласно названной резолюции КМСЕ от 16 марта 2022 г. такое исключение состоялось с даты резолюции. Надо отметить, что на момент уведомления Россией Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию права представительства нашей страны уже были приостановлены решением КМСЕ от 25 февраля 2022 г. со ссылкой на ст. 8 Устава СЕ8. Между тем указанное положение Устава СЕ предусматривает, что для прекращения членства в СЕ по решению КМСЕ его (1) право на представительство должно быть приостановлено, (2) КМСЕ должен предложить ему выйти из состава СЕ в соответствии со ст. 7 Устава СЕ и (3) в отсутствие реакции на это предложение КМСЕ принимает решение о дате прекращения членства. Очевидно, что даже если считать приостановление членства России 25 февраля 2022 г. предложением покинуть СЕ, то именно уведомление России от 15 марта следует считать реакцией на такое предполагаемое предложение. Представляется, что буквальное следование положениям Устава СЕ (уведомление Российской Федерации этим положениям соответствовало) устранило бы большую часть сомнений и споров, в том числе и практического свойства — например, в части выполнения финансовых обязательств или участия в производстве ЕСПЧ.
СТАТ Ь И
Мотивом структур Совета Европы, очевидно, был беспрецедентный характер ситуации: военные действия между государствами — членами СЕ, явно инициированные одним из участников: «агрессивная война» Российской Федерации упоминается в Заключении ПАСЕ № 300 (2022)9 от 15 марта 2022 г., «агрессия Российской Федерации против Украины» — в Резолюции КМСЕ от 16 марта 2022 г.10 Представляется, однако, что этот мотив не вполне рационален: процедура выхода из СЕ, предусмотренная Уставом организации, — сама по себе рассчитана на экстраординарную ситуацию, когда государство грубо нарушает принципы Совета Европы. Ситуация, таким образом, была оценена скорее эмоционально — с такой позиции ее можно описать как «исключительно экстраординарную», то есть через эмоциональную тавтологию. Приходится констатировать, что эта реакция и своего рода «гонка» за возможностью исключить государство из СЕ или самостоятельным выходом в конечном итоге поставила под удар, вероятно, главную ценность предусмотренных Уставом процедур: возможность предвидеть действия участников международного договора и самой организации.
СЕ в качестве даты прекращения членства Российской Федерации определил 16 марта 2022 г. С этой же даты российское правовое регулирование отсчитывает прекращение действия основных договоров СЕ и подлежащих исполнению постановлений ЕСПЧ. Следовательно, хотя дата прекращения участия России в Совете Европы может считаться «согласованной», последствия прекращения этого участия стороны оценивают совершенно по-разному.
Наиболее очевидным последствием выхода государства из СЕ является прекращение его участия в Конвенции. Пункт 3 ст. 58 Конвенции прямо указывает, что любая договаривающаяся сторона, которая перестает быть членом СЕ, «на тех же условиях» перестает быть и стороной Конвенции. Термин «на тех же условиях», как и аутентичный английский текст Конвенции («under the same conditions»), дает достаточно оснований сомневаться в том, какие именно «те же» условия имеются в виду: приведенные в п. 1 и 2 ст. 5811 или некие условия, определенные при выходе из СЕ12. Российская Федерация, видимо, опиралась скорее на второй вариант трактовки (то есть на жесткое решение КМСЕ о прекращении членства в СЕ). Следует отметить, однако, что французский текст Конвенции, похоже, отсылает именно к первым двум пунктам ее ст. 58: «Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention…» («Согласно той же оговорке перестает быть стороной настоящей Конвенции…»). Интересно, что в этом случае употреблено единственное число «условий» или «оговорок», то есть может иметься в виду лишь предыдущий п. 2 ст. 5813. Он, в свою очередь, устанавливает правило, сходное с предусмотренным п. b) ч. 2 ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.: в отсутствие специального правила или соглашения прекращение договора в соответствии с его положениями или Венской конвенцией не влияет на права, обязательства или юридическое положение участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения14.
Вне зависимости от предпочтительного варианта истолкования Конвенции, представляется важным подчеркнуть, что строгое следование процедуре прекращения членства в СЕ (прежде всего, со стороны структур самого СЕ — поскольку уведомление о намерении покинуть организацию ее Уставу явно соответствовало) могло бы дать достаточно времени для согласования процедур прекращения участия в организации и международных договорах: например, к моменту окончания финансового года (в случае выхода России из СЕ согласно процедуре) истекли бы шесть месяцев с момента уведомления о намерении прекратить участие в Конвенции (и иных договорах СЕ при необходимости); в течение этого же периода мог бы быть с должной проработкой решен вопрос о продолжении рассмотрения жалоб, ранее поданных против Российской Федерации и т. д. Однако в сложившейся ситуации вряд ли есть основания сомневаться в выводе А. C. Исполинова о том, что «жестко конфронтационные обстоятельства прекращения членства России в СЕ полностью исключают… достижение каких-либо взаимных договоренностей для
СТАТЬИ
решения проблем переходного периода»15. Возможность какого-либо упорядочения этого процесса представляется безвозвратно утраченной.
Хаотичное прекращение участия России в СЕ и Конвенции не могло не поставить серьезный вопрос перед Европейским cудом по правам человека (далее — ЕСПЧ), для которого жалобы против России даже в настоящее время являются одним из основных источников нагрузки (19,9 % от общего числа жалоб на рассмотрении ЕСПЧ по состоянию на 30 июня 2023 г.16).
ЕСПЧ определил правовые последствия прекращения участия России в Конвенции в нетипичном формате Определения ( Resolution )17 от 22 марта 2022 г. Суд постановил считать Российскую Федерацию прекратившей участие в Конвенции 16 сентября 2022 г. (очевидно, ориентируясь на правило о денонсации Конвенции через шесть месяцев после соответствующего уведомления). Он также счел, что полномочен рассматривать жалобы против Российской Федерации в отношении действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 г. К этим выводам ЕСПЧ отсылает Резолюция КМСЕ от 23 марта 2022 г. о правовых последствиях прекращения участия Российской Федерации в Совете Европы18. Резолюция КМСЕ представляет определенный интерес как дополнительная иллюстрация утраты возможности конструктивного диалога, но и само Определение достаточно любопытно.
В первую очередь, не вполне очевидно, собственно, основание для изучения ЕСПЧ вопроса о дате прекращения участия России в Конвенции.
С одной стороны, несколько произвольное, как показано выше, толкование положений Конвенции со стороны КМСЕ (при том, что сами эти положения также могли трактоваться неоднозначно), не могло не оставить нерешенных организационных вопросов, одним из которых являлось участие России в Конвенции. С этой точки зрения единственный источник официального толкования Конвенции — это, конечно, сам ЕСПЧ. Пункт 1 ст. 32 Конвенции относит к его ведению все вопросы, касающиеся толкования и применения положений Конвенции, которые могут быть ему переданы в порядке индивидуальных или межгосударственных жалоб, консультативных заключений или вопросов о нарушении стороной Конвенции своих обязательств исполнять постановления ЕСПЧ. Пункт 2 той же статьи относит к компетенции ЕСПЧ разрешение спора о компетенции Суда по конкретному делу. Во всяком случае другого авторитетного органа толкования Конвенции не существует.
С другой стороны, ни Конвенция, ни Регламент ЕСПЧ прямо не предусматривают его полномочия по собственной инициативе рассматривать вопрос о порядке прекращения участия стороны в Конвенции. Сам ЕСПЧ, что примечательно, в своем Определении ссылается на Правило 20 собственного Регламента, который лишь предоставляет суду право проводить пленарные заседания, когда того требует выполнение его функций19. Иными словами, ЕСПЧ по собственной инициативе принял решение осуществить толкование положений Конвенции применительно к конкретной ситуации прекращения участия государства. На первый взгляд, это может быть воспринято как принятие ЕСПЧ на себя несвойственных суду функций. Более того, надо отметить, что конвенционные процедуры в принципе не исключают «нормального» порядка обращения в ЕСПЧ для разрешения такого рода вопросов — представляется, что основанием для этого могла бы служить ст. 47 Конвенции, позволяющая КМСЕ запрашивать консультативные заключения «по юридическим вопросам, касающимся толкования положений Конвенции и протоколов к ней». Хотя у европейской и российской сторон совершенно разные взгляды на то, каким образом ЕСПЧ в дальнейшем следует поступать с российскими жалобами, этот предполагаемый спор между Россией и Советом Европы, во-первых, существует de facto , но никак не оформлен (Россия, как известно, в настоящее время в рассмотрении дел ЕСПЧ не участвует, следовательно, формально сторона спора в процессе отсутствует); во-вторых, явным образом относится не к «конкретному делу», а к принципиальному порядку дальнейшей работы ЕСПЧ. Суд обходит эти соображения, продолжая рассмотрение жалоб против России: рассматривая конкретные жалобы, суд анализирует их приемлемость с точки зрения участия России в Конвенции и всякий раз воспроизводит собственные выводы, изложенные в Определении, тем самым дополнительно их легитимируя. Как представляется, этот подход не снимает вопроса, связанного с обоснованностью самого Определения.
Следует оговориться, что в принципе нет сомнений в том, что анализ последствий прекращения участия государства в Конвенции в общем случае следовало бы отнести к компетенции ЕСПЧ. Однако для этого, как и для любого судебного производства, следовало бы придерживаться определенной процедуры. При отсутствии же таковой, как представляется, суду следовало бы воздержаться от несвойственной ему активности.
С точки зрения содержания рассматриваемого Определения неясности значительно меньше: представляется, что основной вопрос возникает в связи с определением даты прекращения участия России в Конвенции с 16 сентября 2022 г. Как отмечено ранее, предложенное ЕСПЧ истолкование не является в принципе невозможным, но выбор этой даты нуждается в определенной мотивировке — хотя бы в ссылке на travaux preparatoires, которые в соответствующей части, к сожалению, в открытом доступе отсутствуют20. Видимо, сознавая возникшую неопределенность, ЕСПЧ в последних постановлениях воспроизводит рассуждение о наличии у него компетенции рассматривать жалобы на действия, имевшие место до 16 сентября 2022 г. В самом деле, чем больше такого рода обязательных (по мнению самого Суда) решений ЕСПЧ будет вынесено, тем основательнее дата 16 сентября 2022 г. закрепится в европейском правопорядке — более того, ЕСПЧ остается связан собственным решением и постепенно вырабатывает дополнительные правила рассмотрения российских жалоб, касающихся событий, произошедших незадолго до этой даты (пока эти правила наиболее полно обобщены в опубликованном 6 июня 2023 г. решении о приемлемости по делу «Елена Ивановна Пивкина против России и 6 других жалоб»21). Логические основания, как представляется, остаются без должной мотивировки. Таким образом, приходится признать, что ЕСПЧ своими действиями, преследовавшими, видимо, цель обеспечения большей определенности с точки зрения процедуры прекращения членства в Конвенции, по существу присоединился к «гонке» за право прекратить участие России в Конвенции на условиях СЕ.
СТАТ Ь И
С учетом сказанного следует тем не менее согласиться, что внутренняя логика Определения ЕСПЧ в достаточной степени непротиворечива: коль скоро участие России в Конвенции прекращается 16 сентября 2022 г., ее обязательства сохраняют актуальность до этой даты. Следовательно, ЕСПЧ полномочен рассматривать жалобы в отношении действий, имевших место до ее наступления. За исключением ключевого вопроса об определении даты прекращения членства в Конвенции, такой подход сам по себе непосредственно следует п. 2 ст. 58 Конвенции.
Российское правовое регулирование о выходе из Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Правовая реальность, сконструированная российским законодателем в отношении рассматриваемых событий, принципиально отличается от представлений ЕСПЧ. В этой конструкции, как представляется, большее значение имеет не упомянутый Федеральный закон о денонсации документов СЕ, определяющий дату прекращения этого участия (16 марта 2022 г.), но в большей степени Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 183-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который de facto установил последствия выхода России их СЕ еще до оформления этого действия на национальном уровне22 (далее — Закон № 183).
Согласно Закону № 183 вступившие в силу после 15 марта 2022 г. постановления ЕСПЧ исполнению не подлежат. Выплата компенсации по постановлениям, вынесенным ранее, осуществлялась только до 1 января 2023 г. Эти чрезвычайно жесткие условия неисполнения постановлений ЕСПЧ, очевидно, не соотносятся с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод и не увязаны с ее денонсацией. Конвенция денонсирована с 16 марта 2022 г. в соответствии Федеральным законом № 43-ФЗ, принятым только 28 февраля 2023 г. Пояснительная записка к проекту Закона № 183 приводит в качестве оснований для такого шага одностороннее применение СЕ формально-принудительного механизма прекращения членства, по мнению российского законодателя, лишившее европейскую сторону возможности требовать соблюдения условий документов СЕ и повысившее свободу усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков дальнейшего исполнения постановлений ЕСПЧ.
Оставляя в стороне вопрос о наличии международно-правовых принципов или норм, допускающих такую трактовку возможности прекращения обязательства по международному договору (в литературе справедливо отмечены и чрезвычайный характер ситуации23, и сомнения в обоснованности и легитимности действий органов СЕ24), сосредоточимся на прямых последствиях такого выбора регулирования для основных интересантов участия России в конвенционном механизме, то есть для заявителей, имеющих цель защитить свои права. Избранное российским законодателем регулирование порождает последствия для тех из них, кто уже успешно воспользовался данным средством защиты (помимо устранения в будущем возможности обращения в ЕСПЧ).
Так, рассматриваемое регулирование фактически установило различные условия выплаты компенсации (выплата которой была допустима), присужденной заявителям, в зависимости от того, в каком составе ЕСПЧ рассмотрены их жалобы. Большая часть постановлений ЕСПЧ вступают в силу в день вынесения (принимаются комитетом
СТАТЬИ
из трех судей). Однако постановления Палат вступают в силу лишь спустя три месяца. Следовательно, заявители, по делам которых постановления уже были вынесены к моменту принятия Закона № 183, но не вступили в силу к 15 марта 2022 г., заведомо не могли получить присужденную им ЕСПЧ компенсацию. В этой немногочисленной группе — 12 постановлений ЕСПЧ, вынесенных начиная с 23 ноября 2021 г. Среди них есть как «резонансные» постановления по делам известных заявителей, таких как общество «Мемориал» или Л. Б. Невзлин, но большая их часть лишена какой-либо резонансности или политизированной окраски.
Другую группу заявителей, которые вряд ли могли предвидеть невозможность получить присужденную ЕСПЧ компенсацию, составляют лица, по делам которых ЕСПЧ были вынесены постановления после 15 марта 2022 г., но до принятия Закона № 183. Вне зависимости от обоснованности или необоснованности позиции ЕСПЧ по этому вопросу, единственным нормативным ориентиром для них вплоть до 11 июня 2022 г. оставалось Определение ЕСПЧ от 22 марта 2022 г.
Кроме того, практически невозможно, что в установленный Законом № 183 срок (до 1 января 2023 г.) все заявители получили присужденную ранее вынесенными постановлениями ЕСПЧ компенсацию. В обычном случае такая компенсация согласно постановлению подлежала выплате в течение трех месяцев с даты вступления постановления в силу, после чего на невыплаченную сумму начислялись проценты. Следовательно, к моменту принятия Закона № 183 присужденная вступившими в силу до 15 марта 2022 г. постановлениями компенсация уже должна была быть выплачена. Между тем, согласно статистике КМСЕ к концу 2022 г., ожидалось получение сведений о выплате компенсации по 1102 делам, из них по 791 делу — сведения не были представлены в течение более 6 месяцев (по состоянию на конец 2021 г. эти цифры составляли соответственно 730 и 539 дел)25. Таким образом, к моменту установления законом, по сути, шестимесячного срока осуществления выплаты компенсация по большой части ранее вынесенных ЕСПЧ постановлений уже не была выплачена в течение такого же срока.
Следует принимать во внимание потенциальную неточность статистики КМСЕ, которая учитывает не фактическое осуществление выплаты, а лишь представленные российскими властями отчеты (и совсем необязательно все представленные отчеты оперативно фиксируются). Так, И. В. Краснов в январе 2023 г. сообщил, что 476 заявителей получили компенсацию по решениям ЕСПЧ в период после выхода России из СЕ26, из чего следует, что по крайней мере в большей части дел выплата компенсации была осуществлена, что не получило отражения в статистике КМСЕ. Следует, однако, учесть также и то, что статистика КМСЕ учитывает не количество заявителей, а количество «дел», то есть постановлений, в рамках каждого из которых могли быть разрешены десятки жалоб граждан. Таким образом, реально оценить количество заявителей, которым компенсация выплачена не была, вряд ли возможно.
С другой стороны, вместо существовавшей процедуры выплаты компенсации на основании решения ЕСПЧ могут быть использованы национальные правозащитные процедуры. Например, с учетом содержания того или иного постановления ЕСПЧ не исключено обращение заявителя с иском о компенсации причиненного морального вреда, в котором выводы ЕСПЧ могут рассматриваться наряду с другими доказательствами, подтверждающими факт причинения вреда. Следует признать, однако, что этот «компромиссный» вариант ни в коей мере не гарантирует успеха возможного иска заявителя: судебная процедура требует повторного изучения фактических обстоятельств; предписания ЕСПЧ не являются обязательными и даже рекомендательными для судебных органов; наконец, сумма компенсации, присуждаемая ЕСПЧ, как правило, существенно выше компенсации морального вреда, которую заявители могут получить в рамках национальной правовой системы.
Помимо выплаты присужденной ЕСПЧ компенсации серьезную проблему представляет принятие мер индивидуального характера, то есть мер, непосредственно связанных с индивидуальной ситуацией заявителя. Классическим и наиболее распространенным примером таких мер является пересмотр принятого по делу заявителя судебного решения по новому основанию, ранее предусматривавшийся в российских процессуальных кодексах.
Хотя применительно к уголовному судопроизводству этот порядок и до прекращения участия в Конвенции вызывал некоторые возражения в доктрине27, на практике он находил одобрение в европейских структурах, а самое главное — позволял реально восстановить права заявителей. В этом контексте отмечается, что Верховным Судом Российской Федерации постановления ЕСПЧ, вступившие в силу до 15 марта 2022 г., по-прежнему рассматриваются в качестве нового обстоятельства, выступающего правомерным основанием для возобновления производства28. Справедливой представляется позиция Ю. Ю. Берестнева о том, что анализ практики ЕСПЧ в отсутствие «административного давления» со стороны КМСЕ может являться эффективным инструментом совершенствования правоприменительной практики и законодательства29.
СТАТ Ь И
Что касается постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 г., хотя российское законодательство прямо запрещает их исполнение, не кажется невозможным рассматривать их как потенциальное указание на нарушение прав заявителя, которое может нуждаться в исправлении в рамках уголовного судопроизводства. В самом деле, п. 3 ч. 4 ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК РФ) указывает на «иные новые обстоятельства», которые могут быть основанием для возбуждения прокурором производства в соответствии со ст. 415 Кодекса, и не ограничивает круг таких обстоятельств. Б. Л. Зимненко указывает, что в правоприменительной практике к таким обстоятельствам относят, например, не имеющие обязательной силы решения договорных органов ООН (включая Комитет ООН по правам человека)30. На возможность такой оценки решений Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека (компетенция которой не основана на международном договоре и не зависит от согласия государства, против которого подается жалоба) указывал и Конституционный Суд Российской Федерации31. Нужно признать, что Российская Федерация участвует в большинстве международных договоров, закрепляющих те или иные права человека, на основании которых действуют соответствующие органы ООН, но не участвует в конвенционной системе. Однако это обстоятельство, как видится, сказывается лишь на отсутствии у органов прокуратуры обязанности принимать во внимание постановления ЕСПЧ, но не на принципиальной возможности учесть выводы этого суда в случае их обоснованности. Вновь акцентируем внимание, что такой подход предполагает не исполнение решений ЕСПЧ, а восстановление потенциально нарушенных прав заявителей, если выводы этого суда с точки зрения прокурора являются обоснованными.
Конечно, нельзя не признать некоторую искусственность описанного подхода, учитывая в том числе отсутствие единообразия в его применении к договорным органам ООН и недостаточную урегулированность соответствующей процедуры в УПК РФ, справедливо отмеченные А. Л. Осиповым32. К тому же его воспроизведение в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства невозможно — в силу приведенного в данных кодексах закрытого перечня оснований для пересмотра судебного решения по новым обстоятельствам. Однако этот путь видится на сегодняшний день последней юридически допустимой возможностью соприкосновения европейской и российской правовых систем, сотрудничество которых до недавнего времени приносило достаточно позитивные результаты33.
Заключение
В заключение можно в очередной раз констатировать, что выход Российской Федерации из СЕ и Конвенции — это свершившийся факт, который получил неоднозначное отражение в юридической реальности. Процесс этого выхода можно назвать хаотичным, что было обусловлено погоней европейской стороны за возможностью скорейшим образом избавиться от России как участника СЕ. С нашей точки зрения, предусмотренные нормативным регулированием СЕ правила были нарушены, и в результате у России (и, главное, у российских граждан) не оказалось возможности предвидеть непосредственные юридические последствия своих действий — во всяком случае с точки зрения процедуры. Концептуальное отступление от действующих правил вызвало своего рода каскад неопределенностей как в межгосударственном регулировании, особенно в части действий и решений ЕСПЧ, так и, к сожалению, в российском регулировании. На национальном уровне это поднимает вопрос о защите прав тех заявителей, которые уже обратились в ЕСПЧ в период, когда этот суд являлся допустимым и легитимным средством правовой защиты.
Перспективы дальнейшего участия Российской Федерации в межгосударственных органах по защите прав человека или даже самостоятельного учреждения таких органов не вполне ясны. Исследователями и практиками высказаны и проанализированы разнообразные варианты такого участия34. Думается, что непростой (хотя во многом
СТАТЬИ
продуктивный) опыт участия в европейской конвенционной системе, и особенно болезненного и хаотичного выхода из нее, показывает, что присоединение к межгосударственным объединениям по защите прав человека требует некоторой осторожности. С. А. Сайбулаева в этом отношении справедливо отмечает принципиальное значение вопросов обеспечения отечественного политико-правового суверенитета, определения границ и приоритета международной или национально-государственной правовых систем35.
Во всяком случае, как видится, имеет смысл рассуждать о новом механизме после окончательного разрешения остаточных проблем, связанных с существованием двух фактически параллельных реальностей: европейской, в которой продолжается рассмотрение российских жалоб и действующий председатель ЕСПЧ Ш. О’Лири не без гордости заявляет о привлечении России к ответственности за нарушение ее международных обязательств36; и российской, в которой любые решения и действия ЕСПЧ или КМСЕ не просто не отражаются, но фактически запрещены к исполнению.
Российская Федерация и СЕ, на первый взгляд, не испытывают особых неудобств от существования в параллельных реальностях (за исключением, пожалуй, повышенной нагрузки на органы СЕ, которые должны по-прежнему прикладывать усилия для заведомо непродуктивной работы с российскими жалобами). Однако «гонка» за право выйти из СЕ или исключить из СЕ якобы нерадивого участника привела по меньшей мере к определенной сумятице, и хотя стороны заявили о «разводе», пострадавшей стороной остались заявители — в первую очередь, граждане Российской Федерации.
В перспективе, разумеется, вполне возможно замещение правозащитного конвенционного механизма как на международном уровне (из действующих в настоящее время механизмов исследователи справедливо указывают на Комитет ООН по правам человека), так и на внутригосударственном уровне (недаром руководство высших судов и правоохранительных органов напоминает о широких возможностях, которые в этом смысле предоставляет российская правовая система). Однако для авторов более чем 15 тыс. жалоб, остающихся на рассмотрении ЕСПЧ, равно как и для заявителей более чем в 2 тыс. неисполненных постановлений ЕСПЧ, вопрос о восстановлении их прав или компенсации за их нарушение в отсутствие некоторого переходного механизма останется достаточно острым.
Список литературы Правовое оформление выхода Российской Федерации из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека
- Берестнев Ю. Ю. Решения уголовно-процессуальных вопросов в прецедентной практике Европейского суда по российским делам сохраняют актуальность. Уголовное право. 2022. № 9. С. 63-68. https://doi.org/10.52390/20715870_2022_9_63.
- Герасименко Ю. В., Герасименко Т. В. Законодательные новеллы о механизме и сроке исполнения (неисполнения) решений ЕСПЧ в РФ. Научный вестник Омской академии МВД России, 2022. № 3 (86). С. 246-250. https://doi.org/10.24411/1999-625X-2022-386-246-250.
- Зимненко Б. Л. Обзор практики рассмотрения Комитетом ООН по правам человека отдельных индивидуальных сообщений, поданных в отношении Российской Федерации. Российское правосудие, 2023. № 4. С. 5-23. https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2023.4.5-23.
- Зимненко Б. Л. Пересмотр судебных актов в связи с установлением комитетами ООН нарушения РФ международных договоров. Уголовный процесс, 2023. № 5. С. 76-80. https://doi.org/10.53114/20764413_2023_05_76.
- Исполинов А. С. Прекращение международных договоров: буйство красок за рамками Венской конвенции о праве международных договоров. Международное правосудие, 2022. № 3 (43). С. 75-95. https://doi.org/10.21128/2226-2059-2022-3-75-95.
- Клеандров М. И. Будущий Международный суд по правам человека с участием России: варианты возможностей. Государство и право, 2023. № 1. С. 12-22. https://doi.org/10.31857/S102694520024107-8.
- Ковлер А. И. Перспективы учреждения Суда СНГ (Суда ЕАЭС) по правам человека. Права человека, 2022. № 7. С. 3-5.
- Мельник С. В., Гомозова О. Ю. К вопросу импортозамещения Европейского суда по правам человека. Администратор суда, 2023. № 1. С. 50-53. https://doi.org/10.18572/2072-3636-2023-1-50-53.
- Оксюк Т. Л. Исключение решений ЕСПЧ из УПК РФ: лучше поздно, чем никогда. Законность, 2022. № 9 (1055). С. 52-58.
- Осипов А. Л. Актуальные вопросы применения решений межгосударственных органов по правам человека в уголовном судопроизводстве РФ. Lex russica, 2023. Т. 76. № 3. С. 72-86. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.196.3.072-086.
- Сайбулаева С. А. Имплементация международных положений в Российской Федерации: политико-правовой аспект. Государственная власть и местное самоуправление, 2023. № 2. С. 3-7. https://doi.org/10.18572/1813-1247-2023-2-3-7
- Сайбулаева С. А. Российская Федерация и европейское сообщество: современность и парадигма политикоправового развития. Юрист, 2023. № 1. С. 61-66. https://doi.org/10.18572/1812-3929-2023-1-61-66.
- Фокин Е. А. Влияние практики Европейского суда по правам человека на российское правосудие по гражданским делам: истории успеха и нереализованные возможности. Закон, 2022. № 7. С. 165-183. https://doi.org/10.37239/0869-4400-2022-19-7-165-183.