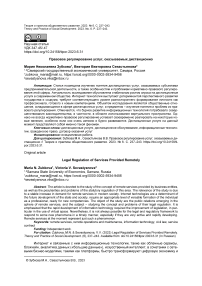Правовое регулирование услуг, оказываемых дистанционно
Автор: Зубкова Мария Николаевна, Севастьянова Виктория Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению понятия дистанционных услуг, оказываемых субъектами предпринимательской деятельности, а также особенностям и проблемам нормативно-правового регулирования этой сферы. Актуальность исследования обусловлена стабильным ростом спроса на дистанционные услуги в современном обществе. Интернет-технологии выступают детерминантой перспективного развития государства и социума, требуют соответствующего уровня разностороннего формирования личности как профессионала, готового к новым компетенциям. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере дистанционных услуг, а предметом - изучение понятия и проблем их правового регулирования. Отмечается, что бурное развитие информационных технологий потребовало совершенствования законодательства, в частности, в области использования виртуального пространства. Однако не всегда нормативно-правовое регулирование успевает своевременно реагировать на некоторые новые явления, особенно если они очень активно и бурно развиваются. Дистанционные услуги на данный момент представляют собой именно такой феномен.
Дистанционные услуги, дистанционное обслуживание, информационные технологии, гражданское право, договор оказания услуг
Короткий адрес: https://sciup.org/149142981
IDR: 149142981 | УДК: 347.45/.47 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.31
Текст научной статьи Правовое регулирование услуг, оказываемых дистанционно
промышленность. На современном этапе развития многие процессы в обществе определяет цифровизация ‒ «процесс внедрения цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации данных в различные сферы человеческой деятельности» (Орлова, Го-цуцова, 2022: 114).
Например, в 2021 г., по данным ресурса Netologiy.ru, в онлайн-среде прошли обучение 18 млн человек, траты на это дополнительное образование составили 226 млрд рублей. Для сравнения – очно обучались 12 млн пользователей, которые заплатили 214 млрд руб1. За последние три года доля урегулирований убытков через мобильное приложение компании по КАСКО увеличилась в пять раз, а по ОСАГО – в 292. Также в 2022 г. россияне стали чаще пользоваться онлайн-услугами банков. Через банковские приложения и интернет-банк они оформляли вклады и открывали накопительные счета3. Сказанное позволяет заключить, что дистанционный формат сегодня является весьма удобным и популярным способом получения тех или иных услуг, спектр которых достаточно широк.
Стоит говорить об экономической природе данного явления, так как удаленные услуги связаны с удовлетворением потребностей населения или организаций (Юрьева, 2022: 64).
В научной литературе можно встретить разные подходы к содержанию понятия «услуга». При этом его можно трактовать как практически всю деятельность, имеющую полезный эффект (в широком смысле), либо ограничить дефиницию только предметом сделки (в узком смысле)4.
Однако представители научного сообщества единодушны в том, что услуга представляет собой совокупность действий или деятельность субъектов гражданского оборота, которые либо вообще не имеют материального результата, а полезный эффект заключается в них самих, либо имеют такой результат, но он не отделим от этих действий или деятельности5.
И именно отсутствие материального или продолжительного результата услуг некоторые учёные-цивилисты называют «мгновенной потребляемостью» (Баранников, 2015: 63).
Таким образом, услуга в целом «состоит двух элементов: цели, которой является польза, помощь; средств достижения цели – выполнение определенных действий» (Захарова, 2022: 45).
Говоря о дистанционных услугах, стоит отметить недостаточную теоретическую разработанность данного понятия. На сегодняшний день в научной литературе существует несколько подходов к его трактовке. Обобщить их можно в следующем утверждении: дистанционные услуги предоставляются клиентам на основе удалённого взаимодействия (Авагимян, Лепешкина, 2020: 355). При этом синонимичное употребление имеют термины «дистанционные», «электронные», «сетевые», «удаленные» (Рудакова, 2020: 311). В любом случае дистанционная услуга подразумевает ее оказание потребителю опосредованным способом.
Понятие «дистанционный» имеет свою историю. Как отмечается в современных исследованиях, под ним сначала осознавался заочный характер предоставления тех или иных услуг, затем – осуществление их на расстоянии (Коблова, Мелентьев, 2022: 202).
Некоторые исследователи отмечают, что правильным является использование понятия не дистанционных услуг, а услуг, оказываемых дистанционным способом. При этом встречаем еще одну трактовку: ими считаются услуги с использованием дистанционных технологий6.
И.В. Фролов, изучая рассматриваемый феномен в европейских странах и в системе регулирования европейского права, указывает, что при дистанционном формате «потребитель получает именно услугу с характерным отсутствием результата ее оказания в материальной форме, то есть без передачи какого-либо материального носителя» (Фролов, 2020: 167).
А если обратиться к официальным документам, то в Директиве № 2011/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «О правах потребителей» содержится понятие «дистанционный контракт», под которым понимается договор, заключенный между продавцом и потребителем в рамках орга- низованной схемы дистанционных продаж товаров или оказания услуг без необходимости одновременного физического присутствия продавца и потребителя с исключительным использованием одного или нескольких дистанционных средств связи вплоть до момента заключения контракта1.
Помимо описанных, имеет место быть и такое понятие, как услуга в электронной форме, или электронная услуга. Однако анализ научной литературы показывает, что в большей степени оно применимо для обозначения не потребительских, а государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению. Например, по мнению А.А. Зайцевой, Ю.И. Чернова, электронная услуга – «это одна из разновидностей информационных услуг, оказываемых интернет-пользова-телю» (Зайцева, Чернов, 2020: 156).
Также встречается в научной литературе и понятие сетевых услуг. В частности, по мнению С.И. Рудакова, к ним относятся «услуги, которые оказываются как непосредственно поставщиком услуг, например, провайдером, так и физическими лицами, юридические лицами, а также государством в лице его управомоченных органов, которые оказывают услуги в сети Интернет» (Рудакова, 2020: 312).
В зарубежной литературе используется такое понятие, как «цифровой контент». Отмечается, что разработка адекватной нормативно-правовой базы в этой сфере требует глубокого понимания характеристик рынков и продуктов цифрового контента, конкретных проблем, с которыми сталкиваются потребители, того, в какой степени эти проблемы уже урегулированы существующим законодательством, пробелов в нем. Одной из таких проблем является неопределенность в том, что этот самый контент представляет собой – товар или услугу (Helberger et al., 2013).
В Директиве № 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной коммерции)» упоминаются информационные общественные услуги, которые включают в себя любые услуги, которые предоставляются по индивидуальному запросу получателя услуг, как правило, за воз-награждение, на расстоянии посредством электронного оборудования, которое используется для переработки (включая цифровое сжатие) и сохранения инфор-мации2. При этом не следует путать их с общественными услугами, которые подразумеваются отечественным законодательством. Данная Директива не распространяется на правоотношения в сфере налогообложения, оказания государственных услуг, в том числе антимонопольных; на деятельность нотариусов или представителей эквивалентных профессий в той мере, в которой они выступают в качестве органов государственной власти; на адвокатскую деятельность и деятельность в сфере азартных игр, которая предполагает денежные ставки, включая лотереи и пари.
Как уже отмечалось ранее, в действующем российском законодательстве понятие услуг, оказываемых дистанционно, не закреплено. Если проанализировать нормы Гражданского кодекса РФ3, то прежде всего в правовом понимании данного феномена стоит опираться на ст. 128, 779 ГК РФ4, в соответствии с которыми регулирование отношений, связанных с услугами в гражданском праве, осуществляется в соответствии с нормами о возмездном оказании услуг посредством заключения договора.
Дистанционные услуги могут быть также реализованы при помощи информационно-коммуникационных технологий. Среди основных преимуществ данного способа взаимодействия с потребителем следует отметить его удобство и доступность, когда человек может в один «клик», звонок заказать слугу, не выходя из дома; плюсом является также большой выбор услуг, ассортимент которых представлен на интернет-платформах; высокая скорость их оказания; анонимность.
Среди недостатков дистанционного способа взаимодействия потребителя и предпринимателя можно указать следующие: невозможность проверить качество услуги; риск несения дополнительных расходов в случае получения недостаточно качественной услуги; идеальные условия для реализации мошеннических схем.
Современные исследователи указывают, что дистанционные услуги различаются по уровню контакта, который может быть высоким, средним и низким. Так, дистанционные услуги высокого уровня оказываются в офлайн-среде, среднего – на основе офлайн и онлайн, низкого – исключительно на основе онлайн (Восколович, Василькевич, 2018).
В России дистанционные услуги пользуются популярностью; это связано не только с их спецификой, но и с особенностями общественных отношений в стране. РФ имеет достаточно большую территорию. Наличие дистанционных услуг позволяет предоставлять их потребителям в любом регионе. Самыми распространенными сферами применения дистантного формата являются: образование, медицина, юриспруденция, финансовая сфера (в частности, банковская и страховая деятельность, с недавних пор – услуги финансовых и инвестиционных платформ).
Удаленные услуги дают «возможность потребителю выступать в более активной роли при использовании дистанционных технологий. Повышается роль самоорганизации личности потребителя, так как планирование времени находится в управлении клиента, а не определяется графиком работы специалиста той или иной сферы» (Байгужина, 2022: 178).
Дистанционное обслуживание с использованием современных информационных технологий не имеет временных, статусных и территориальных ограничений. Оно обеспечивает возможность круглосуточного потребления разнообразных услуг любому человеку, независимо от места нахождения.
Таким образом, можно сделать вывод, что под дистанционными услугами стоит понимать те, которые оказываются с применением информационно-коммуникационных технологий, характеризуются отсутствием результата в материальной форме. Юридическая природа такого вида деятельности опирается на систему гражданско-правового регулирования, что дает основание рассматривать его как объект гражданских прав.
Особенности правового регулирования дистанционных услуг, в первую очередь, связаны с тем, что:
-
– в законодательстве не закреплено определяющее их понятие;
-
– используемые формулировки в разных отраслях права имеют существенные различия;
-
– особенности их определяются сферой отнесения, например, банковские, страховые, психологические, юридические дистанционные услуги требуют дополнительного, специального правового регулирования.
Ключевую роль в системе правового регулирования дистанционных услуг играет гражданское законодательство. При этом речь идет об услугах вообще, без выделения дистанционных. Они рассматриваются в рамках описания объектов гражданских прав, а также договорных отношений на возмездной основе. ГК РФ регулирует только особенности дистанционной торговли. Что касается удаленных услуг, то каждый их вид на данный момент регулируется специальным законодательством. Так, например, в страховании используется понятие услуг в электронной форме. В законодательстве об образовании фигурируют термины «электронные услуги», «дистанционные технологии». В финансовом и банковском праве довольно давно закрепилось понятие интернет-банкинга. При этом основные процессы, связанные с предоставлением дистанционных услуг в указанных случаях, как правило, регламентируются служебными, локальными, внутренними документами соответствующих организаций.
Законодатель, конечно, стремится предоставить более четкие и стандартизированные правила для услуг, оказываемых дистанционно, однако в рамках отдельных отраслей этого недостаточно. Здесь, скорее, необходимо регулировать правоотношения в рамках унифицированного механизма, который был бы применим ко всем видам дистанционных услуг. В частности, стоит, например, определить порядок доступа к платформам, аутентификации пользователей, правовом статусе субъектов, оказывающих дистанционные услуги (например, законодательство в области телематических услуг учитывает особенности правового статуса оператора связи)1.
Иными словами, для совершенствования законодательства в области дистанционных услуг стоит разработать новые нормы, учитывая действующее законодательство и наработанный опыт, в рамках унификации правоотношений, то есть применительно ко всем видам таких услуг. В ведении специального законодательства – финансового, банковского, страхового, пенсионного и иного – следует оставить определение особенностей оказания данных услуг дистанционным способом. Так, например, в соответствии с положениями приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» такой вид дистанционных услуг может предоставляться в виде «проведения консультации и/или участия в консилиуме врачей»2.
Нелишним будет отметить, что в соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под телемедициной понимаются также информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента1. При этом, как отмечают специалисты в сфере телемедицины, здесь тоже имеют место быть трудности развития новых технологий, которые стали особенно значимы в период пандемии: защита персональных данных, врачебной тайны, правовое регулирование народной медицины. Необходимо более детальное изучение данного вопроса с целью совершенствования нормативно-правового регулирования медицинских услуг, оказываемых дистанционно посредством цифровых технологий в здравоохранении (Телемедицинские технологии в условиях пандемии COVID-19 …, 2021).
Аналогичная ситуация складывается в сфере оказания туристских услуг. На данный момент это одна из самых динамично развивающихся областей, где активно используются дистанционные услуги. В этой связи в литературе отмечается, что «дистанционное оказание туристских услуг должно быть не просто закреплено в действующем законодательстве, но и характеризоваться четко выраженной спецификой. В частности, законодательство должно предполагать персонификацию и индивидуализацию туристской услуги, то есть оказываться она должна конкретному лицу или группе лиц, при этом должно предполагать, во-первых, необходимость осуществления услуги “онлайн” с четкой “привязкой” к реальному времени и месту, в которых находится “объект показа”, во-вторых, посредством технологий должна быть обеспечена “обратная связь в системе”, включающей и самого туриста, исполнителя услуг и “объекты пока-за”, то есть должна сохраняться возможность “онлайн управления процессом” со стороны его участников» (Михайлова, 2021).
В настоящее время становится все более очевидным, что успех электронной коммерции в любой стране зависит главным образом от предсказуемости и приспособленности правовой базы, а также от того, насколько эта база адекватно справляется с потребностями «онлайновых» заказчиков. Чтобы электронная коммерция могла полностью реализовать свой потенциал, потребители должны иметь эффективную защиту при совершении покупок в Интернете, а их основные права должны быть надлежащим образом защищены (Dahiyat, 2011).
В то же время необходимо отметить, что дистанционный способ оказания услуг, приобретающий всё большую популярность, в частности, вследствие огромной площади нашей страны и относительно низкой плотности населения, характеризуется выбором исполнителя, который будет оказывать ее по описаниям, что может порождать много отрицательных последствий, особенно в случае недобросовестности последнего (Байгужина, 2022: 178).
В связи с этим для государства и общества вопрос защиты нарушенных прав потребителей остается актуальным. «Каждый гражданин Российской Федерации является потребителем. Приобретая товары, оплачивая работы и услуги, он вступает в правоотношения с предпринимателями. В отношениях между потребителями и изготовителями (исполнителями, продавцами) потребитель изначально выступает субъектом, юридически менее защищенным» (Шекунова, 2022: 66).
Говоря о гражданско-правовой ответственности, можно считать, что услугодатель несет ответственность за:
-
– любой отказ в предоставлении дистанционной услуги;
-
– любое несоответствие цифрового контента или дистанционной услуги, которое существует на момент поставки и становится очевидным для потребителя.
В то же время, имея в виду специфический характер дистанционных услуг и сферу их оказания, все большее значение, помимо «классических» нарушений, уже предусмотренных законом, приобретают и соответствующие этой области специфические нарушения прав потребителей. Речь идет о введении в заблуждение потенциальных заказчиков (например, посредством распространения фейковой информации об услугах или товарах (Martínez Otero, 2021)) и о манипулировании личными данными потребителей (Quach et al., 2022).
Кроме того, важнейшим вопросом функционирования дистанционного обслуживания остается обеспечение безопасности проведения финансовых операций (Яцына, Михайлюк, 2022: 264).
Таким образом, необходимо отметить, что особенности правового регулирования дистанционных услуг на сегодняшний день заключаются, прежде всего, в отсутствии единого терминологического поля. Гражданское законодательство использует только понятие дистанционной продажи товара, игнорируя наличие соответствующих услуг, которые используются в настоящее время повсеместно.
Кроме того, учитывая специфичный характер процесса оказания таких услуг, вполне логичным и закономерным было бы принятие отдельного нормативного акта, который бы внес ясность в данные правоотношения. Необходимо урегулировать их в рамках некого унифицированного механизма, который был бы применим ко всем видам дистанционных услуг и позволил бы регламентировать правоотношения между субъектами, задействованными в процессе, установил алгоритм доступа к цифровым платформам, правила аутентификации пользователей, закрепил правовой статус субъектов, оказывающих дистанционные услуги.
Отсутствие четкого понятия в законодательстве ведет к неэффективности защиты прав потребителей. На данный момент действующие нормативные акты в этой сфере не учитывают особенности дистанционных услуг. Этот пробел в законодательстве требует устранения. Представляется, что вполне полезным может быть для внедрения на российской почве европейский правовой опыт. Например, ранее уже упомянутая Директива № 2011/83/ЕС, которая посвящена правовому регулированию дистанционных контрактов в целом1. Специфические сферы применения государственных услуг, услуг в сфере социального и медицинского обслуживания, азартных игр регулируются самостоятельными директивами. Кроме того, в 2018 году был сделан шаг и в направлении реформирования сферы защиты прав потребителей, целью которого является укрепление прав потребителей в Интернете, адаптация правовой базы к технологическим и социологическим изменениям2.
Список литературы Правовое регулирование услуг, оказываемых дистанционно
- Авагимян Н.М., Лепешкина А.С. Дистанционное банковское обслуживание в private banking // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 1 (35). С. 354-356.
- Байгужина Р.Р. Анализ рынка дистанционных психологических услуг // Перспективы развития науки в современном мире : в 3 частях. Уфа, 2022. Часть 3. С. 176-179.
- Баранников М.С. Оказание услуг как объект гражданских прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 61-65.
- Восколович Н.А., Василькевич Т.Ю. Особенности развития электронных услуг в цифровом обществе // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 68. С. 410-425.
- Зайцева А.А., Чернов Ю.И. Электронные услуги: понятие и системы // Эпомен. 2020. № 50. С. 155-162.
- Захарова А.С. Место услуг среди объектов гражданских прав // Национальная ассоциация ученых. 2022. № 76. С. 44-46.
- Коблова А.Ю., Мелентьев А.А. История развития дистанционного обучения иностранному языку // Образование в России и актуальные вопросы современной науки. Пенза, 2022. С. 200-204.
- Михайлова А.С. К вопросу о дистанционном оказании туристских услуг в свете цифровизации // Туризм: право и экономика. 2021. № 3. С. 7-10. https://doi.org/10.18572/1813-1212-2021-3-7-10.
- Орлова Л.В., Гоцуцова М.О. Перспективы электронного правительства в Российской Федерации // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: теоретико-методологические и прикладные аспекты. Донецк, 2022. С. 113-115.
- Рудакова С.И. Защита прав потребителей при оказании сетевых услуг // Право и правосудие в современном мире: актуальные проблемы гражданского, гражданского процессуального и трудового права. СПб., 2020. С. 311-315.
- Телемедицинские технологии в условиях пандемии COVID-19 / Н.И. Платонова [и др.] // Медицинское право. 2021. № 1. С. 21-28.
- Фролов И.В. Проблемы определения понятия «дистанционная торговля» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-1. С. 166-168. https://doi.org/10.23672/t3556-2437-7474-x.
- Шекунова Ю.В. Национальная система защиты прав потребителей: понятие и механизмы осуществления защиты // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2022. № 2 (59). С. 61-68.
- Юрьева К.Ю. Понятие и сущность услуги в гражданском праве // Наука через призму времени. 2022. № 6 (63). С. 64-68.
- Яцына И.Ю., Михайлюк М.Н. Тенденции развития дистанционных услуг в банковском секторе // Индустриальное, инновационное и финансовое развитие России: факторы и тенденции. М., 2022. С. 264-267.
- Dahiyat E.A.R. Consumer Protection in Electronic Commerce: Some Remarks on the Jordanian Electronic Transactions Law // Journal of Consumer Policy. 2011. Vol. 34, iss. 4. Р. 423-436. https://doi.org/10.1007/s10603-011-9170-9.
- Helberger N., Loos M.B., Guibault L., Mak Ch., Pessers L. Digital Content Contracts for Consumers // Journal of Consumer Policy. 2013. Vol. 36, iss. 1. Р. 37-57. https://doi.org/10.1007/s10603-012-9201-1.
- Martínez Otero J.M. Fake Reviews on Online Platforms: Perspectives from the US, UK and EU Legislations // SN Social Sciences. 2021. Vol. 1, iss. 7. Р. 181. https://doi.org/10.1007/s43545-021-00193-8.
- Quach S., Thaichon P., Martin K.D., Weaven S., Palmatier R.W. Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data // Journal of the Academy of Marketing Science. 2022. Vol. 50, iss. 6. Р. 1299-1323. https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y.