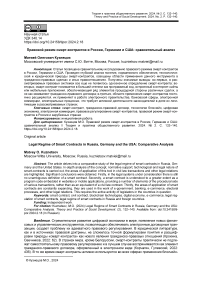Правовой режим смарт-контрактов в России, Германии и США: сравнительный анализ
Автор: Кузнецов М.О.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному исследованию правового режима смарт-контрактов в России, Германии и США. Проведен глубокий анализ понятия, нормативного обеспечения, технологической и юридической природы смарт-контрактов, освещены области применения данного инструмента в гражданско-правовых сделках и иных правоотношениях. Получены значимые выводы: во-первых, в рассматриваемых правовых системах все еще не появилось однозначное определение смарт-контракта; во-вторых, смарт-контракт понимается в большей степени как программный код, встроенный в интернет-сайты или мобильные приложения, обеспечивающий ряд элементов процедурной стороны различных сделок, а не как эквивалент гражданско-правового договора; в-третьих, области применения смарт-контрактов постоянно расширяются, их применяют в работе электронного правительства, банковской сферы, электронной коммерции, электоральных процессах, что требует активной деятельности законодателей в деле их легитимации в рассматриваемых странах.
Смарт-контракт, гражданско-правовой договор, технологии блокчейн, цифровая экономика, электронная коммерция, правовое регулирование смарт-контрактов, правовой режим смарт-контрактов в России и зарубежных странах
Короткий адрес: https://sciup.org/149145272
IDR: 149145272 | УДК: 340.14 | DOI: 10.24158/tipor.2024.2.18
Текст научной статьи Правовой режим смарт-контрактов в России, Германии и США: сравнительный анализ
технологий: цифровом документообороте, бухучете и аудите; биржевых торговых операциях, деривативах – фьючерсах, опционах, форвардах, свопах; функционировании электронного правительства; в сфере логистики и электронной торговли, что требует правовой регламентации.
Попробуем разобраться с термином «смарт-контракт». По определению Ника Сабо, смарт-контракт представляет собой перечень оцифрованных обязательств между сторонами любого гражданско-правового договора, представленных в виде жесткого протокола действий1. По мысли автора, юридические и финансовые издержки процедуры заключения, исполнения, изменения, прекращения различных гражданско-правовых договоров сопряжены с так называемым «человеческим фактором», а цифровые инструменты упрощают эти процедуры, делая их точными и безошибочными. Риски несоблюдения условий договоров, различных нарушений, ставящие контрагентов в невыгодные условия, могут быть преодолены с помощью автоматизации договорных отношений (Го-роднова, 2022: 953). Вместе с тем решается и вопрос экономии некоторых текущих финансовых и временных издержек на обслуживание сделок сторонними специалистами, а сторонам гражданско-правовых отношений необходимо лишь озаботиться содержательными вопросами.
Исследованию правовой природы смарт-контрактов уделяется внимание многих отечественных ученых. Так, Т.В. Шатковская и А.А. Евстафьева определяют смарт-контракт как рамочную конструкцию, применимую к различным видам гражданско-правовых сделок, но не как самостоятельный договор. Анализируя новеллы российского законодательства, авторы делают вывод, что попытки легитимировать смарт-контракты в нашей стране пока остались безуспешными, вместе с тем определенные сложности вызывает и применение к ним действующих норм гражданского права (например, ст. 141.1, ст. 160, ст. 309 ГК РФ). Если заключение гражданско-правового договора, в котором используется смарт-контракт, происходит в процессе волеизъявления сторон, то его прекращение автоматизировано, а изменение условий и вовсе невозможно (Шатковская, Эвстафьева, 2023: 87). Важный признак смарт-контракта – самоисполнение, зафиксирован фактически только в ч. 2 ст. 309 ГК РФ (введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ2) и подразумевает возможность исполнения обязательств по сделкам без «дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий», но при наступлении обстоятельств, определенных ее условиями. На наш взгляд, эта особенность позволяет применять смарт-контракты как дополнительные соглашения, обслуживающие традиционные договоры (поставки, подряда и другие), позволяющие автоматизировать закупки, денежные трансферты, логистику.
Наиболее подробный анализ института правового регулирования «умных» контрактов дается в исследовании А.А. Крыцулы, который обращает внимание на их технолого-практические и процедурные стороны (Крыцула, 2022: 259–261). На проблему в доктринальном понимании юридической природы смарт-контракта обращают внимание И.И. Василишин и А.П. Назинцева. В большинстве случаев смарт-контракты воспринимаются в форме инструмента обслуживания гражданско-правовых договоров и сделок, как компьютерные программы, созданные на базе технологии блокчейн, вшитые в различные цифровые приложения, которые строго контролируют последовательность закодированных в них юридических фактов. Данная сущность смарт-кон-тракта заставляет исследователей задумываться над рисками, связанными с самоисполняемо-стью и исключением человека из процедурной части (Василишин, Назинцева, 2023: 88). Представляется, что все эти опасения не могут иметь под собой объективного базиса, так как запуск смарт-контракта не происходит без первичного волеизъявления сторон, а также не связан с устранением человека из процесса принятия решений. Например, РЖД с 2018 г. внедряет смарт-контракты в логистику3. В процессе многолетней доработки и совершенствования программного обеспечения, дающего возможность крупному перевозчику автоматически отслеживать исполнение обязательств контрагентами в онлайн-режиме, проводить финансовые транзакции и контролировать надлежащее исполнений условий договоров, учитывались и исправлялись все ошибки и проблемные зоны. Именно правила срабатывания программных кодов и включение в них блоков условий – времени доставки, объемов, потерь, внешних факторов, погодных условий, вариантов действий контрагентов и других аспектов – есть результат деятельности команды менеджеров, юристов и разработчиков. Таким образом, смарт-контракты в настоящее время могут служить автоматизации процедурной части несложных процессов и запускать исполнение по некоторым условиям договоров (например, денежную транзакцию в ответ на получение груза в срок и в обусловленном объеме), и именно в таком ключе мы трактуем их в данной статье.
Существенной правовой и практической проблемой при этом остается вопрос форс-мажора или изменения условий договора контрагентами по воле сторон или в связи с теми условиями, которые не были изначально включены в блоки кода. Поэтому некоторые правоведы скептически относятся к дискуссии вокруг смарт-контракта как новой правовой реальности. Как очень точно выразился профессор Д.Е. Богданов, «идейное ядро» цивилистической доктрины, «ядро» концепта договора, осталось неприкосновенным (Богданов, 2023: 21). Очевидно, что та реальность, в которой существуют «умные» контракты в России и мире – это реальность активного цифрового перехода, когда многие традиционные процессы дрейфуют в электронную форму. Электронными становятся валюты, в электронный формат переходят документы и персональные данные, системы коммуникации и обмена информацией. При этом незначительная часть процессов заранее регламентируется и может существовать в автоматизированном режиме, но, по сути, никак не устраняет субъективную волю, и даже принятие решений на основе анализа big data все еще остается за человеческим разумом.
Результаты исследования . Исследовательский интерес представляют такие страны, как Германия, США и Россия, поскольку в той или иной степени в них признается юридическая сила заключенных в электронном виде соглашений (clikwrap agreement), а также на практике активно внедряются автоматизированные смарт-контракты (Кокина, 2022: 99). Обратимся к некоторым источникам права, определяющим правовой режим смарт-контрактов в этих странах, проводя сравнительно-правовой анализ.
Регулирование смарт-контрактов в США . В США решение вопросов легитимации блокчейн-технологий происходит на уровне штатов, а не на федеральном уровне (Ефимова, Михеева, Чуб, 2020: 78–105). Первым среди них была Аризона, принявшая в 2017 г. Билль HB 2417, внесший поправки в раздел 44-7003 Статута штата, в заголовок 44 главы 26, куда была добавлена статья 5, посвященная электронным транзакциям. Важными новеллами в документе было закрепление терминов «блокчейн» и «смарт-контракт», придание им юридической силы. В указанном законе смарт-контракт понимается как «управляемая событиями программа, которая работает в распределенном, децентрализованном, общем и реплицируемом реестре, может брать на себя ответственность и давать инструкции по передаче активов в этом реестре»1. Далее эстафету легитимации «умных» контрактов приняли другие штаты.
В Билле SB 16622 штат Теннесси закрепляет юридический статус смарт-контрактов с выделением тех же признаков, что и Аризона. В 2017 г. штат Делавэр начал вести реестр держателей акций в цифровом формате при помощи смарт-контрактов. А в январе 2018 г. в штате Иллинойс также было узаконено хранение данных в блокчейне, весной того же года появилась информация о легализации смарт-контрактов в штате Коннектикут, а летом – в штате Огайо (Ferreira, 2021: 10). Согласно Биллю SB 3983 штата Невада признается юридическая сила электронных записей, подписей и контрактов, которые хранятся с использованием технологии блокчейн. Однако прямого регулирования смарт-контракты в рамках данного законодательного акта не получили. Штат Вермонт не вводит определенных правовых норм относительно смарт-контрактов, но признает юридическую силу факта или записи, проверенных на блокчейн-платформе4. Вайоминг принял 13 законов, направленных на регулирование финансовых инноваторов в области блокчейна. Штат характеризует смарт-контракты как автоматизированные транзакции, состоящие из кода, скрипта или же языка программирования, и понимает под ними конструкции, выполняющие условия предварительного контракта (Ferreira, 2021: 11). Рассмотренные нормативные правовые акты, касающиеся применения смарт-контрактов, являются примером законодательного регулирования данного вопроса на уровне конкретных, а не всех американских штатов. При этом нет единого понимания смарт-контрактов и четких закрепленных правовых норм, что говорит также о низком уровне доверия к технологии блокчейн и криптовалюте на уровне федерации. Примечательно, что современные тенденции в области регулирования криптовалюты в США представлены лишь 21 сентября 2021 г. в выпущенном Управлением контроля денежного обращения (ОСС) Пояснительном письме № 1172, содержащем вывод о том, что национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации имеют право на оказание услуг клиентам по хранению криптовалюты.
Проведенный анализ показал, что законы американских штатов, касающиеся применения смарт-контрактов, можно разделить на следующие группы:
-
1) штаты, в которых созданы комитеты, имеющие право вносить изменения по данному вопросу в местное законодательство (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Техас);
-
2) штаты, в которых действуют нормативные правовые акты о частичной интеграции смарт-контрактов в область электронной торговли (Арканзас, Юта, Вермонт, Невада, Мэриленд, Оклахома, Южная Дакота, Техас);
-
3) штаты, закрепившие термин «смарт-контракт» в местном законодательстве. Так, в штате Иллинойс в 2020 г. был принят закон, подтвердивший юридическую силу смарт-договора, при создании и использовании которого применялась технология распределенного реестра. Примечательно, что непосредственного на саму технологию блокчейн были наложены некоторые ограничения.
При этом важно отметить, что действующий с 1999 г. на территории 47 американских штатов Единообразный закон об электронных сделках (Uniform Electronic Transactions Act – UETA)1, а также принятый 1 октября 2020 г. Закон об электронных подписях в мировой и национальной торговле (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act – ESIGN)2 признают юридическую силу соглашений, заключенных в электронной форме, однако эти соглашения еще не являются смарт-контрактами.
Отсутствие единого правового подхода к природе смарт-контрактов в США оставляет открытым вопрос об эффективности данного инструмента договорных отношений и вынуждает законодателей характеризовать некоторые важные аспекты «смарт-правоотношений» на федеральном уровне. Так, Закон об электронных подписях в глобальной и национальной торговле (ESIGN Act, HR8524) обращает внимание на то, что использование блокчейна при создании записей и смарт-контрактов сохраняет их юридический статус, как если бы это был обычный договор. Вносимые Законом об электронных подписях поправки касаются: 1) корректировки обозначения электронного агента; 2) определения терминов смарт-контракта и блокчейна; 3) изменений в трактовке электронной подписи, хранящейся с использованием технологии блокчейн; 4) требования от штатов юридической легитимации смарт-контрактов3. Несмотря на внесенные в ESIGN Act изменения, процесс легитимации смарт-контрактов в американских штатах проходит медленно, что в очередной раз возвращает нас к вопросу об уровне доверия к данному инструменту договорных отношений.
Таким образом, можно отметить, что в США существуют законы, регулирующие правовые взаимоотношения сторон договоров с применением смарт-контрактов на уровне многих штатов, но на федеральном уровне законодательная база еще не создана, что не исключает высокой заинтересованности федеральной законодательной власти в скорейшем урегулировании договорных отношений посредством смарт-контрактов на уровне страны.
Регулирование смарт-контрактов в Германии . Германию можно охарактеризовать как одну из самых прогрессивных стран в деле легитимации операций, совершенных с криптовалютой в рамках смарт-контрактов4: Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) издало постановление, согласно которому криптовалюта рассматривалась как платежный ин-струмент5. В то же время BaFin не отождествлял криптовалюту и цифровые деньги, так как согласно Закону ФРГ о надзоре в платежной системе, цифровые деньги понимаются как электронные ценности, которые имеют следующие признаки: 1) денежное выражение; 2) выпускаются эмитентами для совершения платежа; 3) имеют центрального эмитента. Биткоин по немецкому законодательству не отвечает данным критериям6. Той же позиции придерживается Бундесбанк, отмечая, что биткоин не имеет признаков цифровой стабильности как цифровая валюта.
Смарт-контракты трактуются Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (Bundesministerium für Digitales und Verkehr – BMDV) как программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обработку контрактов. Так, с точки зрения договорного права, существует адекватная правовая база для учета использования смарт-контрак-тов. С практической точки зрения следует отметить, что современное состояние техники не позволяет полностью автоматизировать договорные отношения. Программное обеспечение работает в соответствии с заранее определенными параметрами и пока не способно принимать взвешенные решения. С другой стороны, правовые нормы содержат неопределенные правовые термины, которые зависят именно от таких индивидуальных оценок ситуации1.
Некоторые немецкие цивилисты позитивно оценивают смарт-контракт, наблюдая в нем стандартизированный инструмент и эффективный метод как заключения соглашений (Azouvi, Al-Bassam, Meiklejohn, 2017: 381), так и дальнейшего самостоятельного использования всеми участниками рыночных отношений, например, в строительстве или торговле (Groß, 2022: 150). Для осуществления финансовой деятельности на рынке криптовалют в ФРГ необходимо получить лицензию BaFin2, что демонстрирует активные попытки организовать их правовое регулирование примерно с 2018 г., но вместе с тем исследования показывают, что сохраняется множество юридических и технологических рисков, до сих пор не позволяющих преодолеть низкий уровень доверия к ним.
Немецкое научное сообщество отмечает среди основных признаков блокчейн-технологии: децентрализованность (использование системы Peer-to-Peer (P2P), хранение информации на компьютерах всех участников, наличие равных прав, отсутствие посредников) и универсальность (возможность передачи как транзакций финансового, так и текстового типа, без возможности внесения изменений в дальнейшем). Согласно мнению немецких цивилистов, тесно связанные с блокчейном смарт-контракты представляют собой программу, содержащую и исполняющую условия заключенного договора, то есть «умный» договор автоматически исполняет обязательства на ранее согласованных условиях3. Следует отметить, что внимание немецкого научного сообщества привлекает вопрос как технического обеспечения, так и правового регулирования, в том числе и защиты персональных данных, полученных при помощи технологии смарт-контрак-тов (Rohde et al., 2022: 145–159).
Согласно позиции Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии cоглашение, представляющее собой волеизъявление сторон, в блокчейне понимается как направление одной стороной волеизъявления получателю, который, имея доступ к системе, может принять его. Таким образом, получение информации о транзакции и является подтверждением волеизъявления сторон на основе блокчейна4. При этом возникает проблема с влиянием на содержание условий соглашения акцептирующей стороной.
Краткий анализ показал, что в немецком правовом поле действуют единые федеральные законы, регулирующие заключение соглашений на блокчейне при помощи смарт-контрактов, однако в научном сообществе нет единого мнения относительно полного доверия к данной технологии, особенно в части защиты персональных данных.
Регулирование смарт-контрактов в России. В России вопросы правового режима криптовалют, блокчейн-технологий в правоотношениях остаются открытыми. Еще в 2018 г. в законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагались статьи о смарт-контрак-тах, но так и не были в него включены. Вместе с тем, есть локальные документы, которые регламентируют применение смарт-контрактов (Соглашение РЖД о внедрении блокчейн-технологий в управление логистикой и другие). Анализ таких источников позволяет сделать вывод, что в российской правовой системе смарт-контракт понимается как компьютерная программа. Например, сервис мониторинга смарт-контрактов грузовых перевозок на платформе «Распределенный реестр данных» зарегистрирован под номером № 17390 от 21.04.2023 г. (владелец РЖД) как программное обеспечение в Реестре российского программного обеспечения при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Также в данном реестре зарегистрированы еще четыре сервиса: Платформа автоматизации процессов управления корпоративными топливными картами на базе технологий распределенного реестра и смарт-контрактов под номером № 18840 от 05.09.2023 г. (владелец АНО ВО «Университет иннополис»); C2G Blockchain Platform под номером № 17692 от 19.05.2023 г. (владелец ООО «КонтролТуГоу.Ру»); Программное обеспечение верхнего уровня СМАРТ системы Энергосбережение под номером № 19253 от 23.09.2023 г. (владелец ООО «Современные энергосберегающие технологии»); BIMDATA под номером № 12090 от 22.11.2021 г. (владелец ООО «Цифровая стройка»)1.
Указанные сервисы используются как средства управления отношениями с клиентами (CRM), позволяющие автоматизировать некоторые операции в доверительной среде неизменных и достоверных сведений, применять средства мониторинга и руководства внутренними и внешними процессами в фирмах и органах государственной власти и управления, оказывать консультационные услуги в сфере информационных технологий. В данном смысле смарт-контракты в России прочно заняли область цифрового документооборота, средств электронной идентификации и применяются для формирования и обслуживания каталога контрагентов (клиентов, поставщиков, партнеров) по разного рода сделкам, выполнения повседневных рутинных управленческих задач, формирования различных баз данных, их аналитической обработки, обмена информацией между подразделениями фирм.
Таким образом, можно сделать вывод, что российское право на современном этапе никак не идентифицирует смарт-контракты, а регулирование правоотношений с их применением происходит в русле действующего гражданского права. Вместе с тем, некоторые термины, закреплённые в новеллах российского законодательства, по своему значению тесно связаны с блок-чейн-технологиями, а значит, и смарт-контрактами. Так, в ГК РФ в статье 141.1 представлено понятие цифровых прав, но при этом расширительное толкование, как и толкование по букве закона, не дает оснований полагать, что речь идет, в том числе о правах, вытекающих из смарт-контрактов. Согласно ФЗ «О цифровых и финансовых активах» ими признаются цифровые права, в том числе права требования по активам, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра (блок-чейн- платформы)2 или иной информационной системы, например, инвестиционной платформы, при этом криптовалюты в российской правовой системе не легализованы как средство платежа, в то же время они разрешены законом как финансовый актив3 для инвестиций4.
Выводы. Дискуссия вокруг детерминации понятия «смарт-контракт» создает в настоящее время проблемы для юридической теории и практики разработки правовых оснований его регулирования. Во-первых, если рассматривать смарт-контракт как программный код, встраиваемый по заказу одной стороны гражданских правоотношений в гражданско-правовой договор, заключаемый с конкретным контрагентом или с неограниченным числом контрагентов (публичная оферта), то вторая сторона не имеет возможности действовать в рамках согласительных процедур, влиять на содержание контракта и его отдельные условия. В таком случае правовое регулирование смарт-контракта требуется только с точки зрения дополнений в действующее гражданское законодательство как юридическое оформление инструмента цифровизации классического договорного права. Отличие смарт-контракта от обычного договора в данном понимании заключается в: отсутствии бумажного носителя; переводе языка договора из лингвистического в язык программирования; реализации автоматического цифрового алгоритма, что исключает физические контакты между контрагентами, чья идентификация и процедура волеизъявления происходят с помощью электронного цифрового ключа; процедуре реализации и юридических последствиях (Лукоянов, 2018: 31). При этом фундаментальные правовые признаки смарт-контракта и гражданско-правового договора идентичны: добровольность заключения, согласие по существенным условиям, эквивалентный характер обязательств, взаимная ответственность сторон (Одинцов, Наклескина, 2022: 54).
Во-вторых, если рассматривать смарт-контракт как эквивалент традиционного договора, то вместе с получением некоторых преимуществ, связанных с безопасностью его реализации, контрагенты испытывают и сложности с согласительными процедурами. Внешние условия, случайные издержки, форс-мажоры и прочие юридические факты, не учтенные в первоначальных версиях смарт-контрактов, влекут необходимость их аннулирования, что постоянно требует обслуживания программистами (контакт с программным кодом через оракулов), и написания новых кодов. В этом случае, на наш взгляд, необходим полный пересмотр положений договорного права, вплоть до легитимации использования в процедурах заключения, изменения или прекращения смарт-соглашений искусственного интеллекта, самонастраиваемых механизмов принятия решений в интересах исключительно сторон контракта во всех случаях, когда необходимо конкретизировать его условия, учитывать форс-мажоры и другие юридические факты. Этот взгляд кажется нам наименее вероятностным, по крайней мере, в перспективе ближайших десятилетий.
В-третьих, сравнительно-правовой анализ правового режима смарт-контрактов в России, Германии и США позволяет выделить общие и частные черты их легализации. Первая черта, скорее общая, для рассматриваемых правовых систем – это фрагментарность и разрозненность регламентации «умных» контрактов в различных национальных правовых источниках. Чаще всего термин вводят в специальное законодательство, регулирующее уже сложившуюся практику, поэтому мы обнаружили легализацию смарт-контракта в области электронной коммерции, правового режима криптовалют, цифровизации экономик изученных стран. При этом Российское право избегает точной легализации, Германское право стремится к выработке федерального законодательства, а в США попытки внедрения рекомендательного регулирования и присоединения к нему большинства штатов проходят довольно медленно. В то же время развитие, например, искусственного интеллекта, сервисов хранения и обработки больших данных, требуют постоянного совершенствования законодательства и, вполне возможно, в ближайшие годы вынудят все страны сделать рывок в деле обширной легализации смарт-контрактов.
Вторая черта демонстрирует, что законодатели не успевают за усложняющимися общественными отношениями. Так, в России законодатель на современном этапе определил правовой режим цифровых прав, приобретаемых и отчуждаемых в том числе с применением смарт-контрактов на инвестиционных платформах, в операциях с цифровой валютой, а на практике они применяются в широком перечне правоотношений, при реализации договоров поставки, купли-продажи и других, и в таком случае на них распространяются общие положения ГК РФ в области договорного права. В США и Германии применение смарт-контрактов связано как с развитием цифровизации, так и с экономическими требованиями оперативного заключения соглашений. Отличительной особенностью немецкого правового регулирования является стремление законодателей на федеральном уровне четко закрепить все термины, процедуры и последствия заключения смарт-контрактов. Особое место для немецких законодателей занимает вопрос защиты данных, полученных при заключении соглашений на блокчейне. В американском правовом поле, что, на наш взгляд, связано непосредственно с принадлежностью США к англосаксонской правовой системе, нет единых федеральных законов, которые бы регламентировали четко все вопросы по использованию технологии смарт-контрактов для всех штатов, что создает ряд проблем, в частности, с защитой данных.
Общей тенденцией для всех анализируемых стран является тенденция на медленный переход разных сфер хозяйственной деятельности стран в цифровую плоскость, что потребует от всех них четкой позиции относительно легитимации процедур заключения, изменения и прекращения соглашений с использованием смарт-контрактов в ближайшем будущем.
Список литературы Правовой режим смарт-контрактов в России, Германии и США: сравнительный анализ
- Богданов Д.Е. Несостоявшаяся технологическая революция в договорном праве: апологетика традиционалистской трактовки договора // Lex Russica. 2023. Т. 76, № 3. С. 21–40. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.196.3.021-040.
- Василишин И.И., Назинцева А.П. Смарт-контракт: отдельные проблемы определения и правовой регламентации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2023. № 1 (846). С. 86–91. https://doi.org/10.52070/2500-3488_2023_1_846_86.
- Городнова Н.В. Цифровая экономика: развитие NFT-рынка и смарт-контрактов // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12, № 2. С. 949–966. https://doi.org/10.18334/vinec.12.2.114328.
- Ефимова Л.Г., Михеева И.В., Чуб Д.В. Сравнительный анализ доктринальных концепций правового регулирования смарт-контрактов в России и в зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 78–105. https://doi.org/10.17323/2072-8166.2020.4.78.105.
- Кокина У.Д. Зарубежный опыт регулирования смарт-контрактов // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 84–5. С. 98–101. https://doi.org/10.18411/trnio-04-2022-219.
- Корчагин А.Г., Гулевский Я.Е. Правовое регулирование смарт-контрактов в зарубежных государствах // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12, № 10–1. С. 435–441. https://doi.org/10.34670/AR.2022.99.13.026.
- Крохина Ю.А., Свечников В.А. Смарт-контракт как гражданско-правовой способ распоряжения цифровыми правами: проблемы теоретического обоснования и практического применения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 3 (59). С. 60–65. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-3-60-65.
- Крыцула А.А. Правовой режим смарт-контрактов: код или договор // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 56. С. 239–267. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2022-56-239-267.
- Лукоянов Н.В. Правовые аспекты заключения, изменения и прекращения смарт-контрактов // Юридические исследования. 2018. № 11. С. 28–35. https://doi.org/10.25136/2409-7136.2018.11.28115.
- Одинцов С.В., Наклескина Е.А. Смарт-контракты в предпринимательской деятельности: сравнительно-правовой анализ правового регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2022. № 10 (253). С. 53–63. https://doi.org/10.24412/2072-4098-2022-10253-53-63.
- Шатковская Т.В., Евстафьева А.А. Правовое регулирование изменения и расторжения смарт-контракта по законодательству РФ // Северо-Кавказский юридический вестник. 2023. № 2. С. 85–94. https://doi.org/10.22394/2074-7306-2023-1-2-85-94.
- Azouvi S., Al-Bassam M., Meiklejohn S. Who Am I? Secure Identity Registration on Distributed Ledgers // Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology : conference procedings. Oslo, 2017. Pp. 373–389. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67816-0_21.
- Datenwirtschaft und Datentechnologie Wie aus Daten Wert entsteht / M. Rohde [et al.]. Berlin, 2022. 303 s. = Экономика данных и технологии обработки данных. Как данные создают ценность / М. Роде [и др.]. Берлин, 2022. 303 с. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65232-9. (на нем. яз.)
- Ferreira A. Regulating smart contracts: Legal revolution or simply evolution? // Telecommunications Policy. 2021. Vol. 45, no. 2. Article 102081. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102081.
- Groß D. Vertragsdurchführung mit Smart Contracts – rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen // Datenwirtschaft und Datentechnologie. Berlin, 2022. S. 145–159. = Гросс Д. Исполнение договоров с помощью смарт-контрактов – правовые общие условия и требования // Экономика данных и технологии обработки данных. Берлин, 2022. С. 145–159. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65232-9_11. (на нем. яз.).