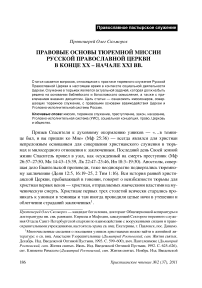Правовые основы тюремной миссии Русской Православной Церкви в конце XX – начале XXI вв
Автор: Скоморох Олег
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Православное пастырское служение
Статья в выпуске: 2 (37), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья касается вопросов, относящихся к практике тюремного служения Русской Православной Церкви в настоящее время в контексте социальной деятельности Церкви. Служение в тюрьмах является актуальной задачей, которая должна быть решена на основании библейского и богословского осмысления, а также с привлечением внешних дисциплин. Цель статьи — ознакомить миссионеров, совершающих тюремное служение, с правовыми основами взаимодействия Церкви и Уголовно-исполнительной системы России.
Миссия, тюремное служение, преступление, закон, наказание, уголовно-исполнительная система (уис), социальная концепция, право, церковь и общество
Короткий адрес: https://sciup.org/140189913
IDR: 140189913
Текст научной статьи Правовые основы тюремной миссии Русской Православной Церкви в конце XX – начале XXI вв
Призыв Спасителя к духовному окормлению узников — «…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25:36) — всегда являлся для христиан непреложным основанием для совершения христианского служения в тюрьмах и милосердного отношения к заключенным. Последний день Своей земной жизни Спаситель провел в узах, как осужденный на смерть преступник (Мф 26:57–27:50, Мк 14:43–15:39, Лк 22:47–23:46, Ин 18:3–19:30). Апостолы, совершая дело Евангельской проповеди, тоже неоднократно подвергались тюремному заключению (Деян 12:5, 16:19–25, 2 Тим 1:16). Вся история ранней христианской Церкви, пребывающей в гонении, говорит о неизбежности тюрьмы для христиан первых веков — христиан, отправляемых языческими властями на мученическую смерть. Христиане первых трех столетий всячески старались проникать к узникам в темницы и там иногда проводили целые ночи в утешении и облегчении страданий заключенных 1 .
Протоиерей Олег Скоморох — кандидат богословия, докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, заведующий Сектором тюремного служения Отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель храма св. вмц. Екатерины, г. Павловск, пос. Динамо.
Начиная с эпохи Константина Великого Церкви уже не угрожали открытые гонения, но служение заключенным осталось неотъемлемой частью миссии Церкви в обществе. Посетители собирались в тюрьмах в воскресные дни, а византийское правительство в лице царей Гонория и Феодосия II предписывало судьям, чтобы они приходили по праздникам в темницы и узнавали о делах заключенных под страхом строгого взыскания за неисполнение этой обязанности. Церковь в лице епископов и священников также считала своей обязанностью заботиться о заключенных. Предстоятели Церкви и сами посещали узников, и поручали их заботе диаконов, облегчая участь заключенных пастырскими увещаниями и посильной помощью. Более того, «I Вселенский (Никейский) собор 325 года учредил институт Procuratores Pauperum (попечение о бедных, горемычных), члены которого должны были посещать тюрьмы, ходатайствовать об освобождении невинных, а в некоторых случаях даже виновных, снабжать узников пищей, одеждой и всеми мерами судебной защиты, но главное — принимать меры к их нравственно-религиозному исправлению» 2 .
По мере распространения христианства, у всех народов, принявших новую веру, защита угнетенных и слабых, забота о неимущих, больных, увечных, престарелых и сиротах, а также попечение о заключенных традиционно вверялось представителям Церкви. Упомянутые уже императоры Гонорий, Феодосий II и Юстиниан предоставляли епископам право давать в церквях убежище тем, кому угрожало насилие, ходатайствовать по их делам, смотреть за тюрьмами и содержанием в них заключенных3. Широкое распространение получила практика ходатайства епископов перед императорами об освобождении преступников от смертной казни. Эти поначалу добровольные ходатайства со временем перешли в обязанность, которую соборы возложили на епископов. Иногда христиане избавляли преступников, действительно заслуживающих смертной казни, что побудило Феодосия Великого издать закон против тех монахов, которые любовь к ближним простирают до того, что отнимают преступников из рук правосудия, таким образом выражая свой протест против человекоубийства вообще4. Но в целом Церковь заботилась о бедных, больных, сиротах и заключенных, устраивая различные больницы и приюты, в основном, при монастырях, а государственная власть оказывала существенную помощь духовенству в деле попечения, освобождая от государственных налогов имущество, принадлежащее различным благотворительным учреждениям, и наказывая тех чиновников, которые мешали их деятельности.
Таким образом, история тюремного служения христианской Церкви в первые века ее существования убедительно показывает, что стремление христиан иметь попечение о заключенных, утешая и облегчая их страдания, независимо от отношения государства и общества к Церкви, зародилось с самого начала. Это стремление не ослабевало и в последующие периоды. Однако именно от государственной власти всегда зависело, насколько эффективно Церковь могла совершать свое служение в тюрьмах. В России забота о нищих, больных и заключенных также первоначально находилась в руках духовенства. По праву, данному Церкви уставом св. Владимира о церковных судах в начале XI в., а также в соответствии с греческими номоканонами, в ведении Церкви находились богадельни, странноприимные дома и все люди больные и увечные, забота о которых вручалась епископам. На расходы для богоугодных дел Церкви отдавалась десятая часть сборов по всей Русской земле. Позднейший устав Ярослава о церковных судах 1051–1054 гг. и грамота великого князя Василия Дмитриевича 1403 г. подтвердили предоставленные епископам права над богадельными людьми 5 .
Однако тюрьма Средних веков как в России, так и в Европе, была лишь мерой физического задержания человека и наказания за совершенные преступления. Первые исправительные тюрьмы-пенитенциарии появляются в Европе в XVIII в. Вообще в это время во многих странах проходили тюремные реформы и некоторые коронованные особы существенно помогали этому: Екатерина II, Леопольд II, Фридрих Прусский и Иосиф Австрийский. Они готовили соответствующие изменения законодательств своих государств. В России результатом появления новых принципов является отмена смертной казни и смягчение наказаний вообще 6 .
История тюремного попечительства в нашей стране начинается со времени правления императора Александра I, когда в 1816 г. по инициативе прибывших в Россию членов Лондонского тюремного общества и министра духовных дел и просвещения князя Александра Николаевича Голицына было учреждено «Человеколюбивое общество». До начала XIX в. тюремной проблематикой на государственном уровне никто не занимался, и поэтому ко времени создания указанного общества перед властями стояли проблемы нехватки и переполненности тюремных помещений, антисанитарных условий содержания заключенных, отсутствия школ и проч. В этом отношении интересен документ, относящийся к 1767 г., в котором князь Вяземский доносил о тюрьмах Московского магистрата и розыскной экспедиции следующее: «В некоторых казармах теснота превеликая, крыши ветхи и грозят обрушиться, и продовольствие арестантов не обеспечено. Тюремные сидельцы умирали без исповеди и причастия; настояние правительства перед духовенством о посещении их оставались без последствий, так как духовенство, поддерживаемое Синодом, требовало жалованья, а дать его было не из чего» 7 . В результате деятельности «Человеколюбивого общества» (впоследствии — «Общества попечительного о тюрьмах») при безусловной поддержке правительства в местах заключения стали устраиваться храмы для совершения богослужений, религиозного назидания и утешения заключенных.
В настоящее время служение Русской Православной Церкви в тюрьмах совершается, начиная с 90-х гг. XX в., когда у священников и мирян появилась возможность посещать места лишения свободы. Законная возможность для духовного окормления тюрем появилась в первую очередь в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации 1993 года, когда основы тюремного служения были гарантированы статьей 28 Конституции («О свободе вероисповедания»), в том числе и в отношении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Эти права получили развитие в Уголовнопроцессуальном и Уголовно-исполнительном законодательстве. В частности, согласно Федеральному закону № 103-ФЗ 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» ст. 16, п. 9 и ст. 17, п. 14, гарантировано право «отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного культа — при условии соблюде- ния Правил внутреннего распорядка8 и прав других подозреваемых и обвиня-емых»9. В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации от 1997 года также оговаривается обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных: «Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц. К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений выделяет соответствующее помещение. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей»10.
Таким образом, в течение 90-х гг. XX в. законодательно закреплялись права заключенных на свободу вероисповедания. В этой связи следует отметить, что еще в 1989 г. в соответствии с приказом МВД СССР № 250 от 10 октября 1989 г. были приняты «Рекомендации по взаимоотношениям исправительнотрудовых учреждений с религиозными организациями и служителями культов». До конца 1990 г. действовало Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» с изменениями и дополнениями от 23 июня 1975 г. В 1992 г. в Исправительно-трудовой кодекс были внесены изменения — добавлена статья 8-1 «Обеспечение свободы совести осуждённого» 11 .
В свою очередь, Русская Православная Церковь и МВД России в 1994 г. достигли договоренности о совместной работе с заключенными. В декабре 1999 г. министр юстиции Российской Федерации Ю.Я. Чайка и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписали соглашение о сотрудничестве министерства юстиции и Русской Православной Церковью в области духовного окормления и религиозно-нравственного просвещения осужденных. Ре- ализация данных соглашений была возложена со стороны Русской Православной Церкви на Синодальный Отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, где был образован Сектор тюремного служения (решением Священного Синода от 16–18 июня 1995 года), со стороны МВД и, впоследствии, с 1997 г., Министерства юстиции — на Главное управление исполнения наказаний России (ГУИН). Эти соглашения позволили начать просветительскую деятельность не только среди осужденных, но и среди личного состава правоохранительных органов. За всеми учреждениями уголовноисполнительной системы были закреплены священнослужители. Региональные управления ГУИН (с 2004 г. ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний) и епархиальные архиереи, как правило, заключали соглашения о сотрудничестве, на основании которых и совершалась миссия Церкви в местах лишения свободы: строились храмы и проводились богослужения, организовывались воскресные школы и распространялась религиозная литература, проводились гуманитарные и праздничные мероприятия. По возможности в тюремных общинах организовывались небольшие хозяйственные предприятия.
Первое десятилетие тюремного служения Русской Православной Церкви в местах лишения свободы не было простым. Руководство учреждений, исполняющих наказание, было воспитано на советских принципах отношения государства к религии. Кроме того, колонии и тюрьмы всегда понимались как абсолютно закрытые, изолированные от общества учреждения со строгими внутренними порядками, правилами и собственной тюремной субкультурой. Так что допускать туда совершенно посторонних на тот момент людей для прямого общения с заключенными многим работникам тюремной администрации не хотелось. Наконец, то были годы экономической нестабильности в стране. В колониях закрывались промышленные зоны, учреждения ощущали острую нехватку медикаментов и питания, помещения требовали капитального ремонта, а тысячи заключенных, оставленных без работы, были фактически предоставлены сами себе. Очевидно, что у администрации учреждений на местах было достаточно забот, и, например, представители неправославных христианских конфессий, активно развернувшие тогда свою миссионерскую деятельность, иногда выглядели привлекательнее для сотрудничества: они не требовали никаких специальных условий для своей миссии, а просто собирали заключенных в клубах и привозили с собой гуманитарную помощь. При этом деятельность неправославных миссионеров также была законной, поскольку любая действующая в России религиозная организация, имеющая государственную регистрацию (в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»), могла заключить договор или соглашение о сотрудничестве с региональными управлениями ГУИН и в рамках соглашения осуществлять свою деятельность в местах лишения свободы. Тем более, что с момента ратификации «Европейской конвенции о защите прав человека»12, Уголовно-исполнительная система России должна была выполнять «Европейские пенитенциарные правила», утвержденные Советом Европы13 и «Минимальные стандартные правила обращения с заключенными», принятые на Генеральной Ассамблее ООН 1955 г.14 В частности, права человека на свободу мысли, совести и религии, закрепленные в ст. 1 и ст. 18 «Всеобщей декларации прав человека»15 и в статьях 17 и 28 Конституции Российской Федерации, где подтверждаются данные права человека и гражданина, а в п. 3 ст. 17 разъясняется, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»16. Этот же принцип закреплен в «Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными», где говорится, что лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, пользуются всеми правами человека и гражданина, в том числе: «В пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность удо- влетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах его заведения…» (ст. 42). В Приложении к Рекомендации NR(87)3 Комитета министров (Совета Европы) государствам-членам (Совета Европы) относительно Европейских пенитенциарных правил (ст. 46) также прямо указывается, что «каждому заключенному разрешается, по мере возможности, удовлетворять свои потребности религиозного, духовного или морального порядка и для этого присутствовать на службах или собраниях в месте лишения свободы и иметь в своем распоряжении необходимые книги и публикации».
Необходимо также отметить, что «если в месте лишения свободы находится достаточное количество заключённых, принадлежащих к одной и той же религии, должен быть назначен или утверждён официальный представитель этой религии. В том случае, если это оправдано большой численностью таких заключённых, и обстоятельства позволяют это, достигается соответствующая договорённость о его работе на постоянной основе» (ст. 47.1 Приложения к Рекомендации NR(87)3 Комитета министров государствам-членам относительно Европейских пенитенциарных правил). Те же положения закреплены в статье 41 Приложения к «Минимальным стандартным правилам обращения с заключёнными» 17 .
Применительно к России речь идет о соглашениях о сотрудничестве между традиционными религиями (христианство, ислам, буддизм) и представителями уголовно-исполнительной системы. В основном, конечно, сотрудничество осуществляется с Русской Православной Церковью, так как в России это самое многочисленное религиозное объединение, и особая роль Православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры признана в обществе. Об этом прямо сказано в Преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»18. Однако последними документами на сегодняшний день являются соглашения о сотрудничестве между ФСИН России и Советом муфтиев России, подписанные 12 мая 2010 г., а также между ФСИН России и Федерацией еврейских общин России от 06 июля 2010 г. Подписание подоб- ного соглашения с Русской Православной Церковью и представителями других конфессий планируется после согласования всех пунктов19.
С каждым годом в местах лишения свободы увеличивается количество верующих осужденных, строятся храмы и молитвенные комнаты. На сегодняшний день практически в каждом учреждении есть своя православная община, храм, назначенный указом архиерея священник. В колониях создаются условия для того, чтобы храмы были открыты ежедневно и верующие заключенные могли собираться там для молитвы. Предоставленная возможность развивать тюремное служение принесла свои плоды, что отмечается и специалистами Уголовноисполнительной системы. Из аналитической справки Федеральной службы исполнения наказаний видно, как изменяется статистика в отношении количества верующих заключенных. В начале 90-х гг. верующие осужденные всех вероисповеданий составляли не более 10% от численности коллектива учреждения. Материалы специальной переписи осужденных, проведенной в 1999 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы России показали, что 36,8% считают себя верующими. Из числа верующих осужденных 82,9% считают себя православными христианами (30,5% от общего числа осужденных). Специальная перепись осужденных 2009 г. показала существенный рост доли верующих среди осужденных к лишению свободы. И если согласно специальной переписи 1999 г. большинство осужденных — 63,2% — не относили себя к числу верующих, то по данным 2009 г. это число сократилось в 2,5 раза и составило 25,6%. При этом среди верующих осужденных большинство считает себя православными — 65,9%, на втором месте находятся мусульмане — 5,5%, христиане неправославных конфессий составляют 1,9%, исповедующие иные религии (буддисты, иудеи и прочие) — 1,1% 20 . Подобные исследования убеждают руководство ФСИН в положительном влиянии воцерковления на осужденных, что позволяет, в свою очередь, представителям тюремной миссии активно развивать свое служение.
Важность тюремного служения неоднократно подчеркивалась иерархами Русской Православной Церкви и в 2000 г. была сформулирована в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»: «Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего.
Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна устроить там храмы и молитвенные комнаты, совершать Таинства и богослужения, распространять духовную литературу. При этом особенно важен личный контакт с лишенными свободы, включая посещение мест их непосредственного нахождения. Заслуживают всяческого поощрения переписка с осуждённым, сбор и передача одежды, лекарственных препаратов и других необходимых вещей. Такая деятельность должна быть направлена не только для облегчения тяжелой участи заключённых, но и на помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Их боль является болью всей Матери Церкви, которая радуется и «об одном грешнике кающемся» (Лк 15:10). Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке и развитии» 21 .
Важно и то, что кроме церковно-практических задач по духовному окормлению в местах лишения свободы, Церковь определяет и правозащитную миссию, что сформулировано в 2008 г. в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»: «С древних времен идо сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления. Церковь также многократно призывала остановить насилие и смягчить нравы, когда разгорались конфликты, в ходе которых попирались права человека на жизнь, здоровье, свободу и достояние. Наконец, в годы богоборческих гонений православные иерархи, священнослужители и миряне обращались к власти и обществу, защищая свободу исповедания веры, отстаивая право на широкое участие религиозных общин в жизни народа» 22 .
В настоящее время тюремное служение в России активно развивается. Появляются все новые формы и методы тюремной миссии. Практика последних 20-ти лет показывает, какие проблемы должна решать и какие задачи должна ставить перед собой тюремная миссия. Расширение границ и детализация направлений миссии в специфических условиях тюремной системы, безусловно, требует серьезной работы по созданию Концепции тюремного служения Русской Православной Церкви, а наступающая реформа Федеральной службы исполнения наказаний — новых документов о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и ФСИН России, закладывающих перспективы тюремного служения на будущее. Именно такие задачи были поставлены Священным Синодом Русской Церкви при создании в марте 2010 г. Синодального отдела по тюремному служению.
Список литературы Правовые основы тюремной миссии Русской Православной Церкви в конце XX – начале XXI вв
- Европейские пенитенциарные правила//Сайт Центра содей-ствия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». URL: http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml (дата обращения 10.02.2011).
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод//Сайт «Евро-пейская конвенция о защите прав человека: право и практика». URL: http://www.echr.ru/documents/doc/12011157/12011157.htm (дата обращения 10.02.2011).
- Конституция Российской Федерации. СПб., 1999. 48 с.
- Минимальные стандартные правила обращения с заклю-ченными//Сайт Организации объединенных наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата об-ращения 10.02.2011).
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви//Юбилейный ар-хиерейский собор Русской Православной Церкви. Сборник докладов и докумен-тов. СПб., 2000. С. 150-212.
- Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Архиерейский собор Русской Православной Церкви. М., 2008//Жур-нал Московской Патриархии. 2008. № 9. С. 4-15.
- Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы//Сайт «Гарант. Информационно-правовой портал».URL: http://base.garant.ru/12142931/(дата обращения 10.02.2011).Православное пастырское служение 197
- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Официальный текст.М., 1997. 131 с.
- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»//Сайт «Гарант.Информационно-правовой портал». URL: http://base.garant.ru/1305540 (дата об-ращения 10.02.2011).
- Федеральныйзакон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвен-ции о защите правчеловека и основных свобод и Протоколов к ней»//Сайт «Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика».URL: http://www.echr.ru/documents/doc/12011157/12011157.htm (дата обращения 10.02.2011).
- Федеральный закон № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и ре-лигиозных объединениях»//Сайт «Гарант. Информационно-правовой портал».URL: http://base.garant.ru/171640/(дата обращения 10.02.2011).
- Федеральный Закон № 161-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ»//Сайт «Консультант-Плюс». URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95737#p119 (дата об-ращения 10.02.2011).
- Федеральный Закон № 377-ФЗ от 27 декабря 2009 г. «О внесении изме-нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ о наказаниях в виде ограничения свободы»//Сайт «АКДИ». URL: http://www.akdi.ru/scripts/gosduma/smotri.php?z=737 (дата обра-щения 10.02.2011).Монографии и статьи
- Prisons//Сайт Catholic Encyclopedia. URL: http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9645 (дата обращения 10.02.2011).
- Байдаков Г.П. и др. Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях. Пособие/Библиотека работника ИТУ. М., ВНИИ МВД РФ, 1996. 94 с.
- Воскобойников Н.Я. Материалы по истории призрения бедных и неимущих в России//Тюремный вестник. 1893. № 10. С. 402-423; № 11. С. 450-469; № 12.С. 525-540; 1894. № 3. С. 120-139; № 4. С. 167-187.
- Воскобойников Н.Я. О приютах для несовершеннолетних в связи с кратким ис-торическим очерком мест заключения вообще. Саратов, 1873. 61 с.
- Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Декабрь. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1993. 868 с.
- Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Июль. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1992. 689 с.
- Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Ноябрь. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1992. 831 с.
- Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Сентябрь. Изд. Введенской Опти-ной Пустыни, 1991. 672 с.
- Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. СПб., 1896. 302 с.
- Тюремное служение Русской Православной Церкви/Сб. материалов. Сост. прот.О. Скоморох, Н.В. Пономарева. М., 2009. 574 с.
- Фойницкий И.Я. Учение о наказании. СПб., 1886. 450 с.
- Фридман Е.Ф. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1894. 124 с.
- Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы, по материалам специальной переписи осужденных 2009 г. Вып. 1. М. 2010. 18 с.