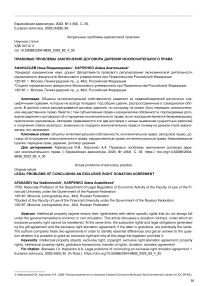Правовые проблемы заключения договора дарения исключительного права
Автор: Афанасьев И.В., Карпенко А.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 4 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
Объекты интеллектуальной собственности наделяют их правообладателей достаточно спе-цифичными правами, которые не всегда попадают под общие сделки, распространенные в гражданском обороте. В данной статье рассматривается договор дарения, по которому не может быть передано исключительное имущественное право. Вместе с тем субъективные права и юридические обязанности, порождаемые договором дарения и договором об отчуждении исключительного права, если последний является безвозмездным, практически одинаковые. Авторами сравниваются эти два договора с целью выявления сущностных различий и получения ответа на вопрос, возможно ли подарить исключительное право и почему на данном этапе законодатель это запрещает.
Объекты интеллектуальной собственности, исключительное право, авторское право, договор об отчуждении исключительного права, имущественные права, интеллектуальные права, безвозмездные сделки, передача прав, дарение, договор дарения
Короткий адрес: https://sciup.org/140301256
IDR: 140301256 | УДК: 347.2/.3 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_63_4_35
Текст научной статьи Правовые проблемы заключения договора дарения исключительного права
Защита прав на интеллектуальную собственность всегда являлась актуальным вопросом. На современном этапе интерес к этому важнейшему институту гражданского права вновь вернулся, процесс цифровизации не обошёл его стороной. Сложность состоит в том, что при переходе большей части сделок, связанных с интеллектуальными правами, в сеть «Интернет» не было определено правовое поле, которое бы это регламентировало. При этом законодательству предстоит столкнуться с современными вызовами, связанными с усложнением данных отношений посредством создания произведений искусственным интеллектом [4].
В российской правовой системе институт защиты интеллектуальных прав сам по себе развит недостаточно, что связано прежде всего с недавним появлением специализированного суда (2013 г.) и вступлением в действие кодифицированного законодательства (2008 г.).
Вступление в действие четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации фактически сделало объекты интеллектуальной собственности (ОИС) предметом гражданского оборота, подчиняющимся всем принципам гражданского права. Это позволяет говорить о том, что правообладатели ОИС могут защищать свои права и распоряжаться ими в соответствии с нормами ГК РФ. Однако ОИС и имущественные права на них не в полной мере подчиняются общим принципам гражданского оборота, поскольку для них предусмотрены специальные сделки.
Так, ГК РФ (ст. 1233 ГК РФ) предполагает два основных способа распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности:
-
1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ);
-
2. Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ).
В первом случае автор (законный правообладатель) исключительного права отчуждает его в пользу другого лица, тем самым лишаясь всех прав в отношении объекта интеллектуальной собственности, потому как такая передача подразумевает в том числе переход и всех правомочий. Во втором же случае у автора есть выбор, в каких пределах предоставить другому лицу исключительное право использования ОИС. В рамках заключения лицензионного договора могут быть установлены определенные ограничения на срок, территорию и способы использования объекта интеллектуальной собственности, однако, несмотря на наличие этих ограничений, ключевым является то, что само исключительное право сохраняется за автором. Создатель ОИС передает контрагенту лишь часть правомочий по распоряжению, т. е. лишь один элемент права собственности на исключительное право [14]. Заключение лицензионного договора является более предпочтительным вариантом, так как позволяет правообладателю сохранять контроль над использованием своего произведения и получать от этого доход.
Возможность дарения интеллектуальной собственности видится основной проблемой данного исследования.
Соотношение договора дарения и договора об отчуждении исключительного права
По договору дарения передается вещь либо имущественное право (требование). Положения о вещных правах не применяются к интеллектуальным правам (ст. 1127 ГК РФ). Содержание имущественных прав, несмотря на то, что ГК РФ выносит их как отдельную категорию объектов, детально нигде не раскрывается. В статье 128 ГК РФ есть указание на то, что интеллектуальная собственность не входит в имущественные права, она вынесена отдельно. В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права представляют собой сложную категорию, включающую одновременно личные неимущественные и имущественные права автора, а также иные права. При этом Верховный Суд отмечал в своём определении факт, что по смыслу ст. 229 и 1270 ГК РФ исключительное право, дающее титул на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности, представляет собой имущественное право.
В свою очередь имущественное право предполагает возможность отчуждения, передачи и иного распоряжения им в любых установленных законом пределах. Например, автор обладает как личными, так и исключительными правами на произведение. Но распоряжаться в своих интересах он может лишь исключительным правом, отчуждать или передавать неимущественное право (что по сути устанавливает сам факт авторства) недопустимо.
Значит, исключительное право на произведение, являясь имущественным, в теории может быть подарено. Однако законодатель в легальном определении договора дарения подчеркивает, что подарено может быть лишь имущественное право требования.
Так или иначе, мы имеем лишь одну возможность предоставить право собственности на исключительное право другому лицу - посредством заключения договора об отчуждении ис- ключительного права. Содержание данного договора предполагает передачу прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме. При этом в действие вступает презумпция возмездной сделки, потому что законодатель предусматривает обязанность правоприобретателя уплатить правообладателю соответствующее вознаграждение, если таковое предусмотрено договором. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным [3].
При толковании п. 3 ст. 1234 мы можем сделать вывод, что такой договор может быть как возмездным (когда применяется второй параграф рассматриваемой нормы), так и безвозмездным, если данное предполагает сам договор. Однако мнения цивилистов относительно природы безвозмездного договора об отчуждении исключительного права расходятся. Одни учёные считают, что данный договор можно рассматривать как разновидность договоров по передаче имущественных прав. Они полагают, что безвозмездный договор об отчуждении исключительного права находится наравне с договорами купли-продажи, дарения и другими сделками, где объектами являются имущественные права, в том числе и исключительные [10]. По мнению других, договоры об отчуждении исключительного права являются самостоятельным видом договоров и не связаны с положениями других гражданско-правовых договоров, касающихся передачи имущественных прав [5]. Представляется, что даже при наличии самостоятельного статуса договор об отчуждении исключительного права вполне может подчиняться общим правилам иных сделок: фактически безвозмездный договор об отчуждении исключительного права наделяет приобретателя теми же правами, что и одаряемого, только применительно к разным объектам гражданского оборота.
Отсюда возникают вопросы: можно ли считать безвозмездный договор об отчуждении исключительного права разновидностью договора дарения? Чем безвозмездное отчуждение исключительного права отличается от его дарения и почему это не допускает законодательство (ст. 1233 ГК РФ)? Как справедливо отметила Е.Н. Васильева, невозможно считать безвозмездное отчуждение исключительного права эквивалентом договора дарения, так как дарение предполагает передачу только обязательственных прав, в то время как исключительные права не попадают под данную категорию, ведь их отличает качествен- ный признак абсолютности [1]. В.Н. Белоусов делает вывод о том, что договор об отчуждении исключительного права является самостоятельным институтом гражданского права [1]. По мнению Г.А. Трофимовой, «следует признать договоры о безвозмездной передаче исключительного права и договоры дарения исключительного права как равнозначные» [13].
Для отражения собственной позиции и ответа на поставленные ранее вопросы сравним оба договора по некоторым критериям.
Форма и момент заключения договоров
Согласно ст. 574 ГК РФ, договор дарения может быть заключен в устной форме, кроме случаев, когда дарителем выступает юридическое лицо и передаёт вещь, стоимость которой превышает 3000 рублей, или обещание дарения направлено на будущее. При этом законодатель не исключает возможности письменной формы заключения договора. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. При сравнении по данному критерию мы видим, что последний договор является более строгим по отношению к договору дарения, что связано с особенностями ОИС.
Сделка, совершаемая по договору дарения, считается осуществленной с момента передачи дара (либо соответствующих документов). В то же время обещание дарения может быть нацелено на будущие отношения, тогда это указывается в самом договоре. В случае с договором об отчуждении исключительного права оно переходит в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Выходит, сами законодательные формулировки, закрепленные в четвертой части ГК РФ, дают основания полагать, что конструкция договора об отчуждении исключительного права и договора дарения может быть выстроена по модели как консенсуального, так и реального договора. Данное остаётся на усмотрение сторон.
Важной законодательной оговоркой является то, что вещь не может считаться подаренной после смерти дарителя, её передача будет регламентироваться нормами института наследования. При отчуждении исключительного права такого примечания нет, однако, согласно Пленуму Верховного Суда, «право на результат интеллектуальной деятельности включается в состав наследства» [9]. Можно сделать вывод о том, что ОИС также не могут отчуждаться после смерти автора.
Государственная регистрация перехода прав по рассматриваемым договорам требуется не всегда. В случае дарения ей подвергаются только сделки с недвижимым имуществом. Договор отчуждения исключительных прав регистрируется лишь тогда, когда сам ОИС подлежит государственной регистрации. В обоих случаях возникновение прав и обязанностей по рассматриваемым договорам будет связано с моментом такой регистрации.
Статья 1235 ГК РФ предусматривает, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного с предшествующим правообладателем [3]. Как разъяснил Верховный Суд, это означает, что новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора [8]. Схожее «свойство следования» при переходе права собственности есть у других правовых конструкций, в том числе договорных (ст. 617 ГК РФ).
Ограничения и запреты
Раскрывая законодательные запреты по рассматриваемым договорам, интересно отметить, что статья 1234 ГК РФ предусматривает запрет безвозмездного отчуждения исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если ГК РФ не предусмотрено иное [3]. Как видим, речь о прямом заимствовании норм договора дарения для регулирования таких отношений, так как указанная норма для безвозмездного отчуждения исключительного права была введена в 2014 году, тогда как такой запрет в нормах договора дарения был предусмотрен всегда (ст. 575 ГК РФ).
Среди ограничений дарения отметим особенности дарения имущества, находящегося в совместной собственности, которое осуществляется по согласию всех участников. Совместное распоряжение в таком случае предполагается. Применительно к ОИС схожим институтом (со всеми оговорками) выступает институт соавторства. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, «совместное распоряжение результатом интеллектуальной деятельности соавторами предполагается в силу пункта 3 статьи 1229 ГК РФ» [7]. В этой связи в п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 [8] поясняется, что распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется пра- вообладателями совместно. Как видно, в обоих случаях предполагается совместное распоряжение общим объектом. Отдельной проблемой может стать «смешение» совместной собственности супругов и соавторства на один ОИС [13].
Таким образом, проанализировав основания для сравнения договора дарения и безвозмездного договора об отчуждении исключительного права, приходим к выводу, что их разница лишь в передаваемом объекте, что не исключает появления одинаковых субъективных прав и юридических обязанностей.
Следовательно, на сегодняшний день нет никаких логичных оснований ограничивать передачу в дар любых имущественных прав, а не только права требования. Мы солидарны с позицией Г.А. Трофимовой, которая предлагает рассматривать договор дарения как родовой договор для всех безвозмездных сделок, которые предполагают бесповоротный (бессрочный) переход права собственности на имущество [13] или имущественные права.
Возможность субсидиарного применения норм договора дарения к безвозмездному договору об отчуждении исключительного права
Для анализа нами были выбраны положения об отмене, ограничении и запрете соглашения. Статья 578 ГК РФ предусматривает несколько оснований отмены дарения. Их условно можно разделить на две большие группы: по воле дарителя и без таковой. В первом случае право отменить дарение появляется у дарителя тогда, когда одаряемый совершает покушение на его жизнь или здоровье, равно когда объектами покушения выступают жизнь и здоровье членов его семьи. Также к этой категории относится ситуация, когда одаряемый своим обращением создаёт угрозу безвозвратной утраты вещи, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность. Ко второй группе относятся судебное решение в рамках процедуры банкротства и ситуация, когда даритель пережил одаряемого [3].
Данные основания являются логичными, однако не каждое из них допустимо по отношению к договору безвозмездного отчуждения. Например, невозможно обращаться с объектом интеллектуальной собственности таким образом, чтобы была создана возможность его утраты. Утрата материального носителя – да, но сам ОИС является нематериальным, а потому данное основание к нему нельзя будет применить. Спорным также является основание, связанное с банкротством, потому что вначале необходимо выяснить, могут ли быть включены результаты интеллектуальной деятельности в конкурсную массу. В соответствии со ст. 131 Федерального закона «О несостоятельности» всё имущество должника, кроме законодательных исключений, может быть реализовано. Исходя из смысла ст. 128 ГК РФ, имущественные права также относятся к данной категории. Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности, хоть и не являются материальными, по смыслу законодательства должны быть включены в конкурсную массу, потому как имеют вполне реальную имущественную ценность, а сделки с ними должны подлежать оспариванию. Пока данное утверждение не регламентируется законодателем, существует возможность для осуществления мнимых сделок, так как в отношении договора об отчуждении исключительного права не предусмотрено оснований отмены. Также крайне важно закрепить положение об отмене отчуждения исключительного права в случае, если правообладатель переживет правоприобреталя, поскольку это имеет практическое значение. Некоторые договоры подлежат государственной регистрации, а при наличии субсидиарных положений в случае смерти одаренного исключительным правом правообладателю не нужно решение суда для регистрации права на объект интеллектуальной деятельности, если он пережил последнего [6].
Что же касается ограничений, то не противоречащим сущности договора об отчуждении является лишь одно: имущество, находящееся в общей совместной собственности. Несмотря на то, что соавторство не признается формой общей собственности, фактически оно порождает у его субъектов те же права и обязанности. Имуществом, в отношении которого имеются равные правомочия у нескольких человек, в данном случае выступают результаты интеллектуальной деятельности. Статья 1258 гласит, что соавторство устанавливается тогда, когда в создании произведения участвовало более двух лиц. При этом распоряжаться объектом интеллектуальной собственности имеет возможность каждый из обладателей права (если договор, заключенный между ними, не содержит иных условий). Это позволяет сделать следующий вывод: если по отношению к договору дарения предусмотрена презумпция согласия всех сособственников, то отчуждение исключительного права не зависит от мнения соавторов. Получается, что ограничения на безвозмездное отчуждение ОИС не распространяются.
Запрет на безвозмездную передачу объекта интеллектуальной собственности
Положения договора дарения предполагают запрет в зависимости от субъектного состава сторон такого договора. Так, не допускается дарение законными представителями от имени малолетних и недееспособных граждан; лицам, занимающим государственные должности или работающим в бюджетных организациях; в отношениях между коммерческими организациями. Последнее положение находит своё отражение в ст. 1234, которая прямо предусматривает запрет безвозмездного отчуждения исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Остальные основания нуждаются в детализации. Поскольку нынешнее законодательство не связывает возникновение авторских прав с дееспособностью или возрастом автора, то первое основание необходимо применять к договору об отчуждении исключительного права, потому что законный представитель может злоупотреблять своим правом, осуществляя безвозмездные сделки в отношении иных заинтересованных лиц. Что же касается работников и служащих, которым в силу профессии запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей, то данное положение обосновывается тем, что это может повлиять на объективность выносимых ими решений. В случае с объектом интеллектуальной собственности, для распоряжения которым нет нужды устанавливать его стоимость, мы считаем, что данное вето можно обойти.
Подытоживая, можно отметить, что к безвозмездному договору об отчуждении исключительного права оправданно субсидиарно применять все основания отмены, кроме установленного в ч. 2 ст. 578 ГК РФ, а также положения о запрете отчуждения ОИС, когда автором выступает несовершеннолетнее или недееспособное лицо.
Заключение
Таким образом, несмотря на схожесть договоров и оправданность заимствования некоторых законодательных конструкций, исследуемые договоры всё же необходимо различать. Сущность договора дарения сводится к увеличению имущества одаряемого за счёт уменьшения имущества дарителя. В этом состоит ключевое отличие от договора об отчуждении исключительного права. Если взять за основу авторские права, то у автора остается личное неимущественное право на произведение, но он утрачивает имущественное право, что фактически означает прекращение отношений по реализации данного ОИС.
Договор об отчуждении исключительного права призван реализовывать права автора использовать такой результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (в том числе безвозмездно передавать исключительные права) [3]. Из законодательного определения дара мы видим, что в данную категорию ОИС не попадают, что фактически можно считать ограничением субъективных авторских прав распоряжаться произведением. А потому мы считаем, что передача лишь права требования ограничивает потенциал договора дарения ввиду того, что сам факт передачи имущественного права по договору дарения законом не запрещён.
Учитывая современную тенденцию к цифровизации, активное распространение гражданско-правовых отношений в рамках информационных сетей, развитие цифрового права и искусственного интеллекта, видится обоснованным внесение следующих изменений в гражданское законодательство:
-
1. Статья 128 ГК РФ должна отражать специфику объектов гражданских прав в зависимости от принадлежности к конкретному субъективному праву: вещные права – вещи; обязательственные права – действие (бездействие) обязанных лиц (право требования); личные неимущественный права – нематериальные блага и т. п.
-
2. Необходимо законодательное уточнение понятия имущественных прав с учетом расширения правового поля в современных условиях (в том числе появления цифрового права, криптовалюты, различных информационных сетей). В связи с этим требуется обоснование необходимости включения имущественных прав в круг объектов гражданских прав.
-
3. Для объектов договора дарения в статье 572 ГК РФ необходимо убрать оговорку о даре лишь как одной категории имущественных прав. Более того, указанную статью следует дополнить следующим пунктом: «в случае заключения договора дарения исключительного права применяются положения статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Для статьи 1234 ГК РФ возможно предусмотреть субсидиарное применение норм договора дарения, если это не противоречит сущности отношений, например в части отмены и запрещения дарения.