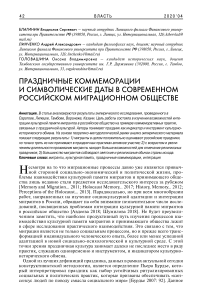Праздничные коммеморации и символические даты в современном российском миграционном обществе
Автор: Благинин Владислав Сергеевич, Линченко Андрей Александрович, Головашина Оксана Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются результаты эмпирического исследования, проведенного в Саратове, Липецке, Тамбове, Воронеже, Казани. Цель работы состояла в изучении возможностей интеграции культурной памяти мигрантов в российское общество на примере коммеморативных практик, связанных с праздничной культурой. Авторы понимают праздник как индикатор и инструмент культурно-исторического обмена. На основе теоретико-методологической рамки анализ эмпирического материала показал следующие результаты: 1) мигранты в целом положительно оценивают российские праздники, но только треть из них принимают в праздничных практиках активное участие; 2) с возрастом и увеличением длительности проживания мигранты находят больше возможностей для отмечания религиозных праздников; 3) большинство мигрантов соблюдают светские и религиозные обычаи страны исхода.
Мигранты, культурная память, праздничные коммеморации, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170171399
IDR: 170171399 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7424
Текст научной статьи Праздничные коммеморации и символические даты в современном российском миграционном обществе
Н есмотря на то что миграционные процессы давно уже являются привычной стороной социально-экономической и политической жизни, проблемы взаимодействия культурной памяти мигрантов и принимающего общества лишь недавно стали предметом исследовательского интереса за рубежом [Memory and Migration… 2011; Holocaust Memory… 2017; History, Memory… 2012; Perceptions of the Holocaust… 2013]. Парадоксально, но при всем многообразии работ, направленных на изучение социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в России, обращает на себя внимание незначительное число исследований, посвященных проблемам интеграции культурной памяти мигрантов в российское общество [Авдеева 2018; Шумилова 2018]. Не будет преувеличением заметить, что наиболее продуктивный путь изучения процессов взаимодействия культурной памяти мигрантов и принимающего общества лежит в сфере исследования практического взаимодействия. Это связано с тем, что миграция является не только социальным процессом, но и прежде всего трансформацией индивидуального человеческого опыта, более или менее успешной адаптацией в новой социально-психологической и культурной среде. С этой точки зрения праздничная культура занимает далеко не последнее место в ряду практик, служащих одновременно и инструментом, и индикатором культурноисторического обмена.
Одной из лучших дефиниций праздника, данных в рамках актуальной сегодня конструктивистской методологии, является определение Пьера Бурдье, который интерпретировал праздник как набор устойчивых ритуализированных социальных и политических практик, которые призваны обеспечивать «консенсус людей по поводу смысла социального мира» [Бурдье 2007: 92]. Данное определение позволяет сделать шаг навстречу современным исследованиям культурной памяти. На основе феноменологической трактовки культуры как результата познавательного опыта, конструирующего социальную реальность в ходе повседневных практик, культурная память рассматривается в качестве совокупности разделяемых и конструируемых представлений о временных, политических, социокультурных аспектах истории народа, выступающих инструментом формирования и поддержания групповой идентичности. Культурная память является многокомпонентным продуктом коллективного сознания, включающим в себя ряд аксиологических, когнитивных и поведенческих аспектов, каждый из которых позволяет говорить о специфических измерениях праздничной коммеморации.
В настоящее время под влиянием глобализационных процессов, развития межкультурного взаимовлияния и взаимодействия представителей различных культур особо остро стоит вопрос социальных коммемораций. Не избежала его и Россия, которая, по оценкам видных российских социологов (В.И. Мукомель, А.В. Дмитриев, В.С. Малахов, М. Мкртчян), давно уже является иммиграционной страной. Взаимопроникновение культурных форм, образцов, моделей поведения и мировоззренческих установок осуществляется посредством процесса культурной диффузии, являющейся результатом культурного контактирования, осуществляемого через различные диффузионные каналы. Это связано с тем, что взаимодействие компонентов культуры, происходящее во время пребывания мигрантов в принимающей стране, является многофакторным феноменом, охватывающим множество сфер общественной жизни. Взаимопроникновение культур формирует особенности коммуникации между коренным населением и мигрантами, а также мировоззренческие установки и ценности обеих социальных групп, которые, в конечном итоге, влияют на сознание и поведение как отдельных групп индивидов, так и общества в целом. Миграционные потоки приводят к тому, что представители различных сообществ перемешиваются друг с другом, сохраняя и даже гипертрофированно воспроизводя коммеморативные практики, свойственные их изначальному месту пребывания. В такой ситуации анализ исторических праздников в условиях функционирования миграционных сообществ становится способом выявления культурных противоречий и нахождения механизмов установления межкультурного взаимодействия.
Изучение праздничных коммемораций и символических дат является важным инструментом для осмысления свойств и особенностей культурной памяти населения России, выявления общественного настроения, уровня социальной напряженности и возможных способов взаимодействия коренного населения и мигрантов. Исследование вопросов культурной диффузии праздничных ком-мемораций являлось одним из блоков масштабного социологического исследования, реализованного коллективом проекта весной 2018 г. при поддержке Российского научного фонда. Исследование проводилось среди мигрантов и принимающего сообщества методами анкетирования и глубинного интервью.
В предлагаемой статье представлены результаты анализа 3 003 анкет респондентов, постоянно проживающих в городах Тамбове, Липецке, Воронеже, Саратове, Казани. Выборка квотная (многоступенчатая). Квотами являются город проживания, пол и возраст респондента. Для анализа результатов использовано частотное распределение ответов, а также таблицы сопряженности. Одновременно с исследованием «коренного» населения в этих городах проводился опрос мигрантов ( N = 300). Для получения качественной информации в 2019 г. было дополнительно проведено 156 интервью с мигрантами, проживающими в этих городах более 3 лет. Интервью проводились на русском языке. Одним из блоков исследования стало изучение праздничных коммемораций.
Нами был проведен анализ мнения коренных жителей об иностранных праздниках и мнения мигрантов по отношению к праздникам коренного населения (как к иностранным праздникам).
Результаты исследования показывают, что, несмотря на довольно либеральное отношение к собственной культуре с точки зрения ее лингвистических аспектов, отношение россиян к иностранным праздникам, в частности к западным, можно охарактеризовать как консервативное. Лишь 19,3% респондентов считают нормой праздновать иностранные праздники. Положительно относятся к праздникам, завоевавшим определенную популярность у населения, таким как, например, День святого Валентина или Хэллоуин, 33,7% коренного населения. Большинство же респондентов (47%) отрицательно относятся к западным праздникам. Данные тенденции вполне объяснимы на фоне устойчивого роста ксенофобии в нашей стране в последние годы, зафиксированного социологическими опросами. Характерно, что вектор этих настроений практически не меняется и, как и прежде, направлен на выходцев с Кавказа, из Закавказья, а также республик Средней Азии [Дмитриев, Мукомель 2008: 105; Воронова, Воронов 2019: 75].
Отношение мигрантов к российским праздникам в целом можно охарактеризовать как положительное. 36,1% респондентов разделяют отношение местного населения к праздникам и принимают в них участие. Примерно такая же часть респондентов (32%) принимает местные праздники, но не празднует их. Отсутствие негативного отношения к местным праздникам также может характеризовать нейтральная оценка мигрантами местных праздников (25,6% общего числа опрошенных). Лишь 6,4% респондентов не принимают праздники коренного населения. В этой связи заметим, что открытость трудовых мигрантов по отношению к российским праздникам и готовность принимать в них участие была выявлена и в исследованиях 2016 (Екатеринбург) [Шумилова 2018: 401], а также 2018 (Красноярск) годов [Авдеева 2018: 139].
Анализ отношения мигрантов к праздникам коренного населения в разрезе возраста показывает, что наиболее лояльны к местным праздникам мигранты из стран бывшего Советского Союза старше 50 лет. Это та категория, которая росла и воспитывалась в едином социокультурном пространстве СССР. В интервью эта категория граждан чаще всего упоминала празднование Дня Победы, Нового года, Праздника весны и труда. Религиозные праздники этой категорией граждан не упоминались. Наиболее нейтральны к праздникам коренного населения мигранты в возрасте до 24 лет (см. табл. 1). Анализ интервью показал, что из праздничных практик мигрантов практически полностью уходят военные коммеморации, но сохраняется внимание к историческим деятелям и значимым событиям истории России.
Таблица 1
Отношение мигрантов к праздникам принимающего общества в зависимости от возраста, %
|
Как Вы относитесь к местным праздникам? |
Возраст респондента, годы |
|||||
|
18–24 |
25–29 |
30–39 |
40–49 |
50–59 |
60 и старше |
|
|
Не принимаю местные праздники |
25,0 |
– |
– |
25,0 |
– |
– |
|
Отношусь нейтрально |
75,0 |
40,0 |
6,3 |
50,0 |
– |
– |
|
Принимаю, но не праздную местные праздники |
– |
10,0 |
12,5 |
25,0 |
– |
– |
|
Принимаю и праздную местные праздники |
– |
50,0 |
81,3 |
– |
100,0 |
100,0 |
Если анализировать ответы на вопрос в разрезе продолжительности проживания, то выделяется категория мигрантов, проживающих в городах опроса менее 1 года: в их ответах нет нейтральности. Большинство из них (80%) принимают и празднуют местные праздники. Не принимают местные праздники 20% (см. табл. 2). Это объясняется необходимостью хотя бы поверхностного знакомства с культурой принимающего общества, как правило, возникающей в ходе контактов в рамках трудовой деятельности. При этом показательно, что по мере увеличения длительности проживания данная заинтересованность падает и актуализируется лишь у тех, кто прожил в России более 11 лет.
Отношение мигрантов к местным праздникам в зависимости от длительности проживания в принимающем обществе, %
Таблица 2
|
Как Вы относитесь к местным праздникам? |
Длительность проживания на территории города, полных лет |
||||
|
Менее 1 |
1–2 |
3–5 |
6–10 |
11–20 |
|
|
Не принимаю местные праздники |
20,0 |
– |
– |
8,3 |
– |
|
Отношусь нейтрально |
– |
40,0 |
38,5 |
25,0 |
– |
|
Принимаю, но не праздную местные праздники |
– |
– |
15,4 |
– |
100,0 |
|
Принимаю и праздную местные праздники |
80,0 |
60,0 |
46,2 |
66,7 |
– |
Россияне, как и мигранты, в равной степени отмечают и светские, и церковные праздники (характерные для своей социокультурной общности). В вопросе соблюдения праздничных традиций своей культуры между мигрантами и местным населением российских городов отличие наблюдается лишь в числе людей, придерживающихся светских взглядов (30,4% опрошенных россиян против 19,6% мигрантов). Исключительно церковные праздники соблюдают лишь 6,5% россиян (против 12,8% у мигрантов). При этом мигранты положительно оценивают культурную инфраструктуру российских городов. Подавляющее большинство опрошенных мигрантов (82,1%) отметили наличие условий для проведения религиозных обрядов и праздников. Анализ ответов в зависимости от возраста показывает, что с возрастом мигранты находят больше возможностей для проведения религиозных обрядов и праздников (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка мигрантами условий для проведения религиозных мероприятий в зависимости от возраста, %
|
Имеются ли у Вас в данном городе условия для проведения религиозных обрядов и праздников? |
Возраст респондента, годы |
|||||
|
18–24 |
25–29 |
30–39 |
40–49 |
50–59 |
60 и старше |
|
|
Нет |
75,0 |
40,0 |
31,3 |
25,0 |
– |
– |
|
Да |
25,0 |
60,0 |
68,8 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
Аналогичная тенденция наблюдается при увеличении длительности проживания на территории города (см. табл. 4). Чем дольше мигранты проживают на территории, тем больше они находят возможностей для проведения своих религиозных обрядов и праздников. Среди религиозных праздников мигранты мусульманского вероисповедания отмечают 2 главных праздника: Ураза-байрам и Курбан-байрам. Мигранты христианского вероисповедания упоминают Рождество и Пасху. Данный факт уже неоднократно отмечался исследователями [Авдеева 2018: 140; Шумилова 2018: 400].
Таблица 4
Оценка мигрантами условий для проведения религиозных мероприятий в зависимости от длительности проживания, %
|
Имеются ли у Вас в данном городе условия для проведения религиозных обрядов и праздников? |
Длительность проживания на территории города, полных лет |
||||
|
Менее 1 |
1–2 |
3–5 |
6–10 |
11–20 |
|
|
Нет |
65,0 |
60,0 |
46,2 |
33,3 |
– |
|
Да |
35,0 |
40,0 |
53,8 |
66,7 |
100,0 |
Во многом благодаря наличию инфраструктуры для проведения праздников среди мигрантов отмечается высокий уровень приверженности собственным традициям и культурным обычаям. Так, более половины респондентов (59,4%) соблюдают все традиции и обычаи своего народа – как религиозные, так и светские. Примерно 1/5 опрошенных мигрантов (19,6%) соблюдают только светские традиции и обычаи. Соблюдение только религиозных традиций характерно для 12,8% респондентов. Менее 1/10 респондентов (8,2%) не соблюдают никакие обычаи своей страны, что подтверждает тезис об особом отношении мигрантов к собственной культурной памяти. Анализ интервью мигрантов показывает, что состояние религиозной инфраструктуры в городах опроса различается. Наибольшее число положительных отзывов о религиозной инфраструктуре приходится на Казань. Это объясняется историческим развитием города как мультикультурного и мультирелигиозного центра.
Анализ отношения мигрантов к традициям и обычаям страны исхода в разрезе возраста показывает, что не соблюдают традиции и обычаи только мигранты в возрасте 40–49 лет (см. табл. 5).
Таблица 5
Соблюдение мигрантами традиций и обычаев своей страны в зависимости от возраста, %
|
Соблюдаете ли Вы традиции и обычаи своей родной страны? |
Возраст респондента, годы |
|||||
|
18–24 |
25–29 |
30–39 |
40–49 |
50–59 |
60 и старше |
|
|
Не соблюдаю традиции и обычаи родной страны |
– |
– |
– |
25,0 |
– |
– |
|
Соблюдаю и светские, и религиозные традиции и обычаи |
100,0 |
70,0 |
93,8 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Соблюдаю только религиозные традиции и обычаи |
– |
30,0 |
6,2 |
– |
– |
– |
Ответы на тот же вопрос в зависимости от длительности проживания показывают, что не соблюдают традиции только незначительная часть мигрантов, проживающих на территории города 6–10 лет (см. табл. 6).
Таблица 6
Соблюдение мигрантами традиций и обычаев своей страны в зависимости от длительности проживания, %
|
Соблюдаете ли Вы традиции и обычаи своей родной страны? |
Длительность проживания на территории города, полных лет |
||||
|
Менее 1 |
1–2 |
3–5 |
6–10 |
11–20 |
|
|
Не соблюдаю традиции и обычаи родной страны |
– |
– |
– |
8,3 |
– |
|
Соблюдаю и светские, и религиозные традиции и обычаи |
100,0 |
100,0 |
84,6 |
75,0 |
100,0 |
|
Соблюдаю только религиозные традиции и обычаи |
– |
– |
15,4 |
16,7 |
– |
Обращает на себя внимание факт абсолютно положительного отношения к традициям и обычаям страны исхода как среди мигрантов, проживших в принимающей стране менее 2 лет, так и мигрантов, проживающих в России более 11 лет. Анализ отечественных исследований, посвященных адаптации и интеграции мигрантов, позволяет предположить влияние как минимум двух тенденций. Во-первых, отсутствие интереса к интеграции может быть связано с тем, что мигрант первоначально может воспринимать место пребывания как временное (заработки, получение гражданства, образования). Отечественные исследователи неоднократно указывали на эту существенную проблему российских миграционных процессов [Мукомель 2011: 39]. Во-вторых, отсутствие потребности в культурной интеграции у мигрантов, длительное время проживающих на территории России, связано с устойчивыми связями внутри своего сообщества. На этот факт также неоднократно указывалось в отечественной научной литературе [Дмитриев, Пядухов 2011: 58; Авдеева 2018: 140; Богдан 2014: 90]. В частности, было выявлено, что самих мигрантов, приезжающих в Россию, с точки зрения уровня адаптационных возможностей можно разделить на три группы: наиболее адаптированные (греки, казахи, армяне, азербайджанцы), наименее адаптированные (узбеки, киргизы, таджики), а также группа промежуточной адаптации (украинцы) [Воронова, Воронов 2019: 74].
Не стоит забывать, что вовлеченность мигрантов в практики «своей» и «чужой» праздничной культуры испытывает существенное влияние отношения к ним принимающего общества и его собственного отношения к праздникам. И здесь вслед за многочисленными отечественными исследователями нам приходится констатировать факт существенного кризиса праздничной культуры в России. Данный кризис связан с отсутствием синхронизации различных темпораль-ностей – дореволюционной, советской, постсоветской. Этому способствует отсутствие системности праздничной культуры, смешение ценностей советского и постсоветского периода, рост консервативных тенденций в обществе. В этой связи не удивительно, что опросы показывают сохранение значительного числа людей «не понимающих» значение новых государственных праздников в России (День России, День народного единства) [Крылова 2015].
Не добавляет оптимизма и ситуация с ростом ксенофобии в российском обществе, а также общая неопределенность миграционной политики, которая, по мнению В.С. Малахова и В.И. Мукомеля, постоянно колеблется между либеральными и консервативными тенденциями [Малахов 2011: 201; Мукомель 2011: 41]. Незавершенность процессов формирования российской гражданской нации продолжает способствовать тому, что «в российских дискурсах о мигран- тах их гражданская принадлежность подменяется этническим происхождением; национальность в обыденном сознании превалирует над гражданством» [Мукомель 2011: 37]. Наконец, общим фоном выступают сами социальные проблемы российского общества, что актуализирует поиски социальной справедливости и “фрустрационные состояния” ‹…› мигранты в этом плане представляют собой идеальный объект для смещенной агрессии, особенно в полиэтничных регионах и городах с высоким уровнем социальной дифференциации общества» [Богдан 2014: 91].
Говоря о праздничной культуре как среде межэтнического взаимодействия культурной памяти мигрантов и принимающего общества, мы полностью соглашаемся с позицией В.С. Малахова, неоднократно указывавшего, что успешная культурная интеграция возможна только после эффективной социально-экономической интеграции. Вместе с тем не менее важна сама социально-психологическая атмосфера доверия, где праздник может оказать неоценимую услугу. Было бы ошибкой делать ставку как на однозначное принятие мигрантами российской праздничной культуры, так и на высокий уровень открытости местного населения. Даже такой, казалось бы, символически нейтральный праздник, как День Победы (9 мая), отсылающий к общему советскому прошлому, может выступать не столько фактором консолидации, сколько фактором разобщения в силу существенной трансформации политик памяти в бывших постсоветских республиках в последние три десятилетия.
Однако было бы еще большей ошибкой не делать ставку на праздники как важный инструмент сплочения. Общая память конструируется не только в практиках повседневного общения и труда [Мукомель 2011: 48], но и может не менее эффективно конструироваться в праздничных ритуалах. Вопрос, следовательно, в специфике и направленности корректировки имеющихся праздников и ритуалов. В данном случае в первую очередь необходимо учитывать селективность практик интеграции, о которой говорит В.И. Мукомель. В зависимости от группы мигрантов (соотечественники, иммигранты, гастарбайтеры) смысл и наполнение праздника могут существенно варьироваться. Во-вторых, в силу необходимости формирования гражданской идентичности мигрантов, их включения в российский социум, а не в диаспоры имеет смысл сделать ставку не столько на государственные общероссийские коммеморации, сколько на локальные и региональные праздники, предполагающие большую степень включения коллег, соседей и в меньшей степени содержащих элементы общественного и государственного контроля. В данном случае удачно подходит День города, где речь могла идти о репрезентации взгляда мигрантов на тот населенный пункт/улицу/район, в котором живут они и их семьи. В-третьих, речь могли бы идти о локальных версиях года бывших постсоветских республик в регионах (Год Украины в Липецкой области, Год Таджикистана в Тамбовской области), которые позволяли бы направлять дополнительные общественные и государственные усилия, с одной стороны, на презентацию культуры мигрантов, а с другой – на расширение знаний принимающего общества о культуре, истории и идентичности стран исхода мигрантов. В-четвертых, поскольку оптимальной для России, по мнению исследователей, является «модель этнокультурной самоидентификации при условии принятия мигрантами гражданской российской идентичности» [Воронова, Воронов 2019: 74], важным представляется усиление этнокультурных элементов в содержании общероссийских государственных праздников (День Победы, День России, День народного единства, Новый год). В-пятых, необходима существенная проработка праздников силовых ведомств и армейских подразделений (День ВДВ, День пограничника, День ВМФ, День сил специальных операций), которые ежегодно превраща- ются в дополнительный фактор ухудшения межнациональных отношений. В текущей ситуации данная практика скорее является маргинальной и во многом реализуется усилиями отдельных вузов, школ, общественных организаций, что, как правило, недостаточно освещается в местных СМИ.
Предложения, высказанные выше, однако, останутся декларациями без подключения двух важнейших ресурсов, входящих в сферу государственной политики. Речь идет о максимально возможном расширении доступности бесплатного изучения русского языка и литературы для мигрантов и максимально положительной позиции центральных СМИ в отношении миграционной политики и культурной адаптации мигрантов в России. В таком случае взаимодействие культурной памяти может пойти в рамках описанной выше культурной диффузии, даже относительное развитие которой мы рассматриваем как положительный сценарий. В настоящий момент анализ исследований ведущих российских социологов, изучающих проблемы миграции, скорее показывает большую реалистичность нейтрального сценария (сохранение существующего положения) или негативного сценария (дальнейший рост ксенофобии и разобщенности). В этом случае официальные коммеморации в России останутся «праздниками для русских», а попытки власти инициировать коммеморации народного единства будут получать отчетливо националистический след.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-78-20149 в рамках работы Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан.
Список литературы Праздничные коммеморации и символические даты в современном российском миграционном обществе
- Авдеева Ю.Н. 2018. Значение культурной памяти мигрантов для этнической самоидентификации (на материале Красноярского края): дис.... к.культ. Красноярск. 168 с
- Богдан С.С. 2014. Факторы межэтнической агрессии и насилия во взаимодействии общностей мигрантов и населения. - Вестник Сургутского государственного педагогического университета. № 2(29). С. 85-92
- Бурдье П. 2007. Социология социального пространства. М.: Изд-во Института экспериментальной социологии. С. 87-96
- Воронова М.В., Воронов В.В. 2019. Аналитическая модель факторов адаптации и интеграции мигрантов в регионах России. - Власть. Т. 27. № 6. С. 69-76
- Дмитриев А.В., Мукомель В.И. 2008. Этническая иммиграция: конфликтное измерение. - Россия в глобальных процессах: поиски перспективы. М.: Изд-во ИС РАН. С. 102-118