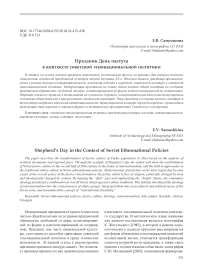Праздник день пастуха в контексте советской этнонациональной политики
Автор: Самушкина Е.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа архивных источников, региональной прессы на примере Дня пастуха показано становление советской праздничной культуры второй половины XXв. Феномен данного праздника проанализирован в рамках дискурса интернационализма, изменения подхода к народной, этнической культуре в советской этнонациональной политике. Модернизация праздников на Алтае стала частью общей политики по созданию праздничной обрядности, свободной от веры, политизированной по форме и идеологизированной по содержанию. Отрицая «темное» прошлое и делая акцент на «светлом» будущем, коммунистическая идеология постулировала сочетание общесоветских и прогрессивных этнических традиций. Через праздник в сознание казахов, алтайцев и теленгитов внедрялась идеология интернационализма, транслировался концепт «дружба народов», происходила интеграция этих народов в социокультурное и политическое пространство Советского государства.
Советская этнонациональная политика, праздничная культура, наследие, интернационализм, народная культура, казахи, алтайцы, теленгиты
Короткий адрес: https://sciup.org/145145016
IDR: 145145016 | УДК: 316.733 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.435-438
Текст научной статьи Праздник день пастуха в контексте советской этнонациональной политики
Модернизация праздников в Горном Алтае стала частью общей политики по созданию праздничной обрядности, свободной от веры, политизированной по форме и идеологизированной по содержанию. Праздник, как часть национальной культуры, стал одним из способов трансляции советской этнонациональной политики в среде этнических меньшинств. В данной статье к рассмотрению праздника применен дискурс-анализ. Это позволяет проанализировать его как динамическое явление в контексте этнонациональной политики советского государства. В методическом плане важными для данного исследования является монография К. Жигульского [1985], в которой в рамках социологического подхода праздник рассматривается как форма обновления и подтверждения ценностей коллективной жизни, отмечается трансформация социо-культурной роли праздника, а также связь практик с политическими событиями; монография С.Ю. Малышевой [2005], посвященная формирова- нию советских праздничных практик Поволжского региона, в которой праздничная культура представлена как важная часть конструирования реальности и процессов ресоциализации жителей российской провинции; статья Ю.А. Эмер [2011], в которой праздничный дискурс рассматривается как коммуникативно-познавательная система; книга М. Рольфа [2009], где массовые советские праздники анализируются как средство господства большевиков, часть имперской стратегии советской культурной политики.
В 1920–1930-е гг. в СССР сложился «Красный календарь». Массовые праздники активно пропагандировали коммунистические идеалы, демонстрировали устремленность советского народа к социальному прогрессу. Новый этап в развитии советской праздничной культуры наступил в 1950–1960-е гг., когда к уже устоявшимся моделям празднования основных событий были добавлены новые праздники и обряды. К таким торжествам относят чествования представителей различных профессий, людей труда.
В Горном Алтае примером такого мероприятия являлся День пастуха. Впервые он был проведен в колхозах Шабалинского и Улаганского аймаков в 1951, 1952 гг. Данное событие должно было по служить восстановлению престижа труда его коренных жителей. Праздник животноводов, как подчеркивала официальная пропаганда, «возник на базе социалистических производственных отношений, в условиях всеобщего подъема экономики колхозов и материального благосостояния колхозов, повышения их культуры. Он порожден самой жизнью, специфическими особенностями труда и быта животноводов» [Пахаев, 1964].
По мысли организаторов праздника, День пастуха представлял из себя форму культурнопросветительской работы. Тяжелые природные и климатические условия, отдаленное положение от районных центров и дисперсное проживание определили новую для советских районных администраторов форму работы. Один раз в месяц, в намеченный заранее день, на центральной усадьбе колхоза съезжались с дальних стоянок пастухи. Подобное мероприятие имело четко выраженную коммуникативную и дидактическую направленность. Именно благодаря систематическим встречам чабаны из отдаленных районов чувствовали свою причастно сть к жизни Советского Союза, получали информацию о жизни в стране, а также были интегрированы в систему советских ценностей, прослушивая лекции на общественно-политические и просветительские темы, смотря популярные фильмы, обмениваясь опытом в области 436
ведения хозяйства. (КУ РА «ГАСПД РА». Ф. Р-190. Оп. 2. Д. 56. Л. 35). В ходе подобных мероприятий работники учреждений культуры по заданиям Домов народного творчества проводили запись произведений фольклора, организовывали выявление мастеров и сбор интересных образцов прикладного искусства (КУ РА «ГАСПД РА». Ф. Р-190. Оп. 2. Д. 56. Л. 40).
Важно отметить, что организацией Дней пастуха, в отличие от массовых государственных праздников типа годовщины Октябрьской социалистической революции, занимались исключительно региональные власти на уровне районов. Они же и составляли программу, формулировали основные положения отчетов для областных и центральных структур и дальше в центр. Подготовительная работа велась правлениями колхозов и культпросвет передвижками, которые совершали ежемесячные маршрутные поездки по стоянкам того или иного колхоза. В ходе передвижений агитаторы проводили просветительскую работу, разучивали с чабанами новые образцы советского фольклора для презентации этих произведений на центральном межрайонном празднике (КУ РА «ГАСПД РА». Ф. Р-190. Оп. 2. Д. 50. Л. 70).
В дальнейшем широкое распространение данное мероприятие получило в высокогорных Ула-ганском и Кош-Агачском районах, где проживали теленгиты, алтай-кижи и казахи, традиционную культуру которых определяло кочевое (отгонное) скотоводство . В 1950-е гг. сложилась достаточно устойчивая программа праздника, которая не менялась вплоть до 1980-х гг.
Праздничные мероприятия тщательно готовились. Задолго до праздника составлялся сценарий; переводились на алтайский и казахский языки о сновные тексты. Дни пастуха проводились на местном и районном уровнях. Митинги, плавно переходящие в смотры художественной самодеятельности, рассматривались как метод обеспечения трудового подъема и гражданского единения.
Концерт художественной самодеятельности проходил на трех языках: алтайском, казахском и русском. Первую часть концерта, как правило, составляли советские песни, далее шло исполнение традиционных народных песен. Образцы фольклора часто дополнялись исполнением новых песен о советском строе. Примером такого творчества может служить текст песни о знаменитом колхозе-тысячнике «Мухор-Тархата», работники которого стали участниками всесоюзной выставки. (КУ РА «ГАСПД РА». Ф. Р-190. Оп. 2. Д. 56. Л. 36–37).
Отдельное внимание уделялось советской эт-нонациональной политике. Обязательной частью праздничных мероприятий были выставки декора- тивно-прикладного искусства, где жители отдаленных районов демонстрировали образцы народного творчества. Представляя предметы, выполненные в традиционной технике, животноводы показывали, что благодаря советской власти у них есть возможность к созидательному труду, к проявлению своего креативного потенциала через народное творчество (Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай. Ф. 1. Оп. 29. Д. 402. Л. 14).
Помимо выставок декоративно-прикладного искусства, проводились различные спортивные состязания. Наряду с состязаниями по волейболу, бегу, организаторами предусматривались конные скачки, борьба куреш, так называемая теленгитская борьба, показ элементов беркутинной охоты. Именно эта часть, согласно отчетам, пользовалась наибольшей популярностью у съехавшихся на праздник животноводов (КУ РА «ГАСПД РА». Ф. Р-190. Оп. 2. Д. 56. Л. 46).
Анализируя дискурс, сложившийся вокруг празднования Дня пастуха в 1950–1960-е гг., можно выделить следующие идеологемы, сопровождающие данное мероприятие.
Во-первых, это описание в газетных публикациях и отчетах счастливой жизни колхозников-скотоводов в настоящем, несмотря на суровые климатические условия.
Во-вторых, в текстах можно обнаружить идею о созидательном характере «народной культуры» в советский период. Декоративно-прикладное искусство рассматривается как элемент подлинного творчества трудящихся масс, освобожденных советской властью. При этом, как правило, рассматривается производство элементов материальной культуры.
В-третьих, это представление о преобразующей деятельности, в т.ч. в области фольклора и истории. Главным становится не изучение, интерпретация фактов, а конструирование новой реальности, в т.ч. и образов прошлого. К важным мероприятиям в газете «Красная Ойротия» неоднократно печатаются рассказы простых алтайцев из различных районов. Содержание этих текстов практически идентично. Начинаются повествования с описания тяжелой жизни, полной лишений, дедов и отцов, самого героя до революции, затем – переход к счастливой жизни под руководством советской власти, полной трудовых свершений, с надеждой на светлое будущее в братской семье народов. Заканчиваются письма демонстрацией готовности защищать сложившийся строй от внутренних и внешних врагов. Пример подобной биографии – «Рассказ старого Улака», опубликованный в рубрике «Творцы золотого руна» [Кандидаты…, 1954].
В-четвертых, образы прошлого тюркоязычного населения Горного Алтая, описываемые как период его вымирания и упадка народной культуры, колониального гнета, время патриархального уклада жизни, распространения суеверий и отсутствие всеобщей грамотности.
В-пятых, мотив дружбы народов и роль русского народа в прогрессивном развитии местного населения; идея о сложившейся в регионе интернациональной колхозной семье. Согласно текстам, практическое осуществление советской национальной политики среди коренного тюркоязычного населения дало блестящие результаты. За годы советской власти в условиях автономии автохтонное население совершило скачок, беспримерный в его истории, который приблизил его к передовым народам советской страны. За это короткое время в горах Алтая возникла высокая культура, уровень которой неизмеримо превосходит все то, что было достигнуто здесь в течение нескольких тысячелетий [Пропаганда…, 1956].
Таким образом, через праздничный дискурс, в т.ч. День пастуха, происходила трансляция ценностей советского государства в отдаленные районы Горного Алтая. Связанный со структурой традиционного календарного цикла, данный праздник органично вписался в модернизированный праздничный календарь советского государства, выполняя функцию идентификации коренного тюркоязычного населения региона.
Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 17-01-00421.
Список литературы Праздник день пастуха в контексте советской этнонациональной политики
- Жигульский К. Праздник и культура. (Праздники старые и новые: размышления социолога). - М.: Прогресс, 1985. - 336 с.
- Кандидаты на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку // Звезда Алтая. - 1954. - № 137. - С. 3.
- Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: Пространство, символы, исторические мифы (1917-1927). - Казань: Рутен, 2005. - 400 с.
- Пахаев С. День пастуха - праздник животноводов // Звезда Алтая. - 1964. - № 132. - С. 2.
- Пропаганда идей дружбы народов - важнейшая задача партийных организаций // Звезда Алтая. - 1956. -№ 101. - С. 1.
- Рольф М. Советские массовые праздники. - М.: РОССПЭН, 2009. - 439 с.
- Эмер Ю.А. Праздничный дискурс: когнитивно-дискурсивное исследование // Вестн. Том. гос. ун-та. -2011. - № 4 (16). - С. 53-68.