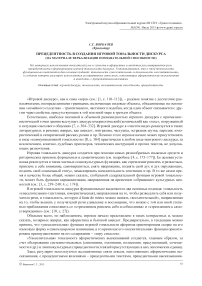Прецедентность в создании игровой тональности дискурса (на материале вербализации познавательной способности)
Автор: Воркачев Сергей Григорьевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
На материале использования показателей ума и глупости в афористике и анкдотах рассматривается роль прецедентности в формировании игровой тональности дискурса. Устанавливается, что в этой тональности функционально выделяются два основных подвида: тональность «увеселительная» и тональность «восхитительная», в создании которых регулярно используются ассоциативные связи имен, наполняющих афористические высказывания и анекдоты, с прецедентными явлениями.
Игровой дискурс, тональность, познавательная способность, прецедентность
Короткий адрес: https://sciup.org/14822306
IDR: 14822306
Текст научной статьи Прецедентность в создании игровой тональности дискурса (на материале вербализации познавательной способности)
«Игровой дискурс», как и сама «игра» (см.: [1, с. 110–113]), – родовое понятие с достаточно расплывчатыми, неопределенными границами, включающее видовые объекты, объединяемые на основании «семейного сходства» – транзитивного, частичного подобия, когда один объект связывается с другим через свойства, присутствующие в той или иной мере в третьем объекте.
Естественно, наиболее значимой и объемной разновидностью игрового дискурса с прагмалинг-вистической точки зрения выступает дискурс юмористический (комический) как «текст, погруженный в ситуацию смехового общения» [7, с. 304–332]. Игровой дискурс в «чистом виде» реализуется в таких литературных и речевых жанрах, как анекдот, эпиграмма, частушка, эстрадная шутка, пародия, юмористический и сатирический рассказ, роман и пр. Помимо этого игровое начало может присутствовать в виде «коммуникативной тональности» [8, с. 304] практически в любом виде неигрового дискурса, за исключением, конечно, судебных приговоров, технических инструкций и прочих текстов, не допускающих разночтения.
Игровая тональность дискурса создается при помощи самых разнообразных языковых средств и риторических приемов, формальных и семантических (см. подробнее: [4, с. 173–177]). Ее целевая установка реализуется в таких частных социокультурных функциях, как стремление развлечь и развлечься, привлечь к себе внимание, самовыразиться, снять напряжение, поднять свой дух и дух окружающих, поднять свой социальный статус, замаскировать назидательность сентенции и пр. В то же самое время в качестве более общей, можно сказать, глобальной содержательной функции игровой тональности, может быть функция карнавализации, направленная на временное «обращение» культурных ценностей (см.: [3, с. 239–240; 4, с. 174]).
В игровой тональности дискурса функционально выделяются два основных подвида: тональность «увеселительная» (шутливая, юмористическая), направленная на то, чтобы развеселить себя или получателя речи, и тональность, которую á faute de mieux можно назвать «восхитительной», направленная на то, чтобы вызвать у получателей речи удивление и восхищение, что можно с той или иной степенью приближения сопоставить со «стремлением развлечь себя и собеседника» и «стремлением к самоутверждению» (см.: [10, с. 27]).
Обильнее всего, по наблюдениям, игровое начало представлено в таких контрастных и, можно сказать, полярных жанрах, как афористика и бытовой анекдот. Предварительно, в тенденции можно принять, что «увеселительная» функция игровой тональности афоризма ориентирована скорее на его языковую форму в самом широком понимании, в то время как его «восхитительная» функция ориентирована преимущественно на его содержание – «игру смыслов».
«Увеселительная» тональность афористических высказываний создается, главным образом, за счет обыгрывания системно-языковых (синонимии, омонимии, полисемии, пресуппозиций, сочетаемости и др.) и лингвокультурных (прецедентности) связей присутствующих в них лексических единиц.
Здесь регулярно используются ассоциативные связи лексем, наполняющих афористические высказывания, с прецедентными явлениями – прецедентными текстами, прецедентными высказывания- ми и прецедентными ситуациями (см.: [6, с. 26–29; 9, с. 72–173]): «Голиаф не был умен. Ему это было не нужно» – Лауб; «Дуракам везет? Не такие уж они дураки» (Ягодзиньский); «Так сильно хочется выглядеть умным, что все чаще предпочитаю молчать» (Калинин); «Ахиллесова пята нередко укрыта в голове» (Кумор).
В основе некоторых афоризмов интеллектуально-игровой тональности лежат достаточно отдаленные и тонкие реминисценции с когда-то кем-то уже изреченными мыслями: «Бывает, что усердие превозмогает и рассудок » (Козьма Прутков) – Labor omnia vincit improbus – «Все побеждает упорный труд» Вергилия; «Недостаточно быть умным . Необходимо быть достаточно умным , чтобы не позволить себе стать умным сверх меры» (Моруа); «В избытке даже разум не всегда желателен, и люди почти всегда лучше приспосабливаются к середине, чем к крайностям» (Монтескье) – Aurea mediocritas – «золотая середина» – добродетель как среднее между двумя крайностями Аристотеля; «Действительно возвышенные умы равнодушны к счастью, особенно к счастью других людей» (Рассел) – Nous avons tous assez de forces pour supporter les maux d’autrui – «У нас у всех хватает сил, чтобы пережить несчастья ближнего» Ларошфуко; « Дураков плодят умные профессии» (Круглов); «Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном » ( Б. Шоу ) – «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя» Козьмы Пруткова; «Другие не дураки, просто они не ты» ( Таранов ); «Дурак – это просто инакомыслящий» (А. и Б. Стругацкие) – Imbéciles: ceux qui ne pensent pas comme vous – «Дураки: те, которые думают не так, как Вы» из «Словаря прописных истин» (Dictionnaire des idées reçues) Гюстава Флобера.
Главенствующая коммуникативная цель народного анекдота – создание комической ситуации, вызывание смеха, поэтому неудивительно, что в произведениях этого речевого жанра практически полностью доминирует «увеселительная» дискурсная тональность при практически полном отсутствии тональности «восхитительной», интеллектуальной, тем более, что отличительной чертой анекдота оказывается заимствованность юмора, которую подметил Михаил Светлов: «Многие считают, что юмор – это анекдоты. А ведь что такое анекдот? Анекдот – это одолженный юмор. Сам не можешь, вот и одалживаешь». Анекдот в настоящее время – явление массовой культуры: на телевидении устраиваются конкурсы анекдотов, издаются сборники анекдотов, анекдотами заполнен Интернет. А массовая культура par excellence основана на пошлости в этимологическом смысле этого слова как эксплуатации, повторении чего-то уже кем-то созданного (ср.: «Пошлый – др.русск. пошьлъ – “старинный, исконный, прежний, обычный”. От по- и ходить, шел » – [11, с. 349]). Тем самым анекдот как часть этой культуры по большей части паразитирует на прецедентности, присущей текстам, именам, ситуациям, которые в этом анекдоте обыгрываются. Так, например, одним из признаков доминантности национального прецедентного имени (см.: [5, с. 61–62]) выступает тенденция к включению его в юмористический дискурс – оно, как правило, фигурирует в бытовых анекдотах, образуя целые циклы (анекдоты о Чапаеве, о Штирлице и пр.).
Из «прецедентных» анекдотических персонажей в текстах с показателями познавательной способности чаще всего встречаются Чапаев и Иван-дурак: «Петька забегает к Василию Ивановичу и кричит: – Я колобка зарубил. – Дурак ты, Петька, это Котовский траншею копал»; «Сидят Петька и Василий Иванович на дереве. Вдруг к дереву подходит слон и начинает его трясти. – Василий Иванович, может здесь у него гнездо? – Дурак ты, Петька, они в норах живут!»; «Пришел Иван-царевич в французский ресторан, а там: Лягушки жареные, лягушки вареные, лягушки под соусом: – Вот они с ними как... А я-то, дурак, женился!»; «Сел Иван- Дурак на Коня- Идиота ...».
Комический эффект здесь может создаваться обыгрыванием прецедентных имен, ситуаций и высказываний: «Ленин показал, как можно управлять. Сталин показал, как нужно управлять. Хрущев показал, что всякий дурак может управлять. Брежнев показал, что не всякий дурак может управлять».
«Лингвокультурным типажом» придурка, тупым, наивным и невежественным, в анекдотах о глупости выступает чукча, появившийся там, очевидно после фильма «Начальник Чукотки»: «Два чукчи ловят рыбу на лодке – один на носу, а другой на корме. Тот, что на носу, слышит громкий всплеск по- зади, оборачивается – друга нет. Он туда-сюда – нет второго нигде. Вдруг через 5 минут – ух – выныривает он из-под воды. Тот, что в лодке спрашивает: – Ты где был?! Я за тебя так испугался!! – Чe ж ты пугаешься-то, дурак? Червяка я менял!»; «Геолог едет на тракторе вместе с чукчей и его женой. Ну и тут ему так бабу захотелось, что говорит он чукче: – Я с твоей женой в лес схожу на часик, а ты посиди, только дверьми не хлопай и не бибикай. Возвращаются они из леса, геолог и говорит: – Дурак ты чукча, поимел я твою жену. – А я, зато, дверями хлопал и бибикал».
Своего рода карнавализация ума в циклах анекдотов о Чапаеве и Штирлице осуществляется через выставление интеллектуально ущербными личностями культурных героев – легендарного красного командира и советского разведчика: «Василий Иванович, кто, по-твоему, дурак ? – Это человек, который выражается так, что другой его понять не может. Понял? – Нет»; «Василий Иванович, ох, и дуб же ты! – Да, Петька, крепок я!»; «В дверь постучали. Штирлиц открыл и увидел на пороге маленькую собачонку. – Что тебе, дуреха ? – с суровой нежностью спросил Штирлиц. – Сам дурак . Я из центра, – ответила собачонка».
Иванушка-дурачок в детстве – герой анекдотов Вовочка, как правило, интеллектуально торжествует над туповатыми взрослыми: «Учительница: – Дети! Слушайте условия задачи, решать будем устно: летят четыре гуся – три белых и один серый. Сколько мне лет? Все молчат. Вовочка поднимает руку. – Ой, Вовочка, опять ты какую-нибудь глупость скажешь! – Нет, Марья Иванна, я решил. – Ну, говори! – Вам двадцать шесть лет. – Правильно! А как ты решил? – Мама меня полудурком называет, а мне тринадцать лет...»; «Вовочка сидит на бордюре – курит, пивко потягивает. Мимо бабулька проходит, смотрит на него и говорит: – Ах ты, безобразник! Почему не в школе?! А он ей: – Да ты чего, дура старая, кто ж в пять лет в школу ходит?!»
Итак, наблюдения над ролью прецедентности в создании игровой тональности дискурса при вербализацией глупости и ума позволяют прийти к следующим заключениям. Наиболее значимой и объемной разновидностью игрового дискурса с прагмалингвистической точки зрения выступает юмористический дискурс. Помимо литературных или речевых жанров сугубо комического характера, где игровой дискурс реализуется в «чистом виде», он может присутствовать в виде «коммуникативной тональности» за редким исключением во всех видах неигрового дискурса.
Игровая тональность дискурса создается при помощи самых разнообразных языковых средств и риторических приемов, формальных и семантических, в ней функционально выделяются два основных подвида: тональность «увеселительная», направленная на то, чтобы развеселить себя или получателя речи, и тональность «восхитительная», направленная на то, чтобы вызвать у получателей речи удивление и восхищение.
Игровое начало присутствует практически в любом литературном или речевом жанре, но обильнее всего она представлена в таких «полярных» жанрах, как афористика и бытовой анекдот. Для создания игровой тональности дискурса регулярно используются ассоциативные связи лексем, наполняющих афористические высказывания, с прецедентными явлениями – прецедентными текстами, прецедентными высказываниями и прецедентными ситуациями.
В народном анекдоте практически полностью доминирует «увеселительная» дискурсная тональность при практически полном отсутствии тональности «восхитительной». Анекдот как часть массовой культуры по большей части паразитирует на прецедентности, присущей текстам, именам, ситуациям, которые в этом анекдоте обыгрываются.
«Лингвокультурным типажом» придурка, тупым, наивным и невежественным, в анекдотах о глупости выступает чукча, появившийся там, очевидно после фильма «Начальник Чукотки». Своего рода карнавализация ума в циклах анекдотов о Чапаеве и Штирлице осуществляется через выставление интеллектуально ущербными личностями культурных героев – легендарного красного командира и советского разведчика.
Список литературы Прецедентность в создании игровой тональности дискурса (на материале вербализации познавательной способности)
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М.: Гнозис, 2004.
- Воркачев С. Г. Карнавлизация лингвокультурного концепта//Воплощение смысла: conceptualia selecta. Волгоград: Парадигма, 2014. С. 238-305.
- Воркачев С. Г. «Антипафос»: карнавализация в лингвокультуре//Вестник Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова. Общественные науки. 2014. № 1. С. 174-178.
- Воркачев С. Г. Интертекстуальность, прецедентность и лингвокультурный концепт//Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов. М.: ФЛИНТА -Наука, 2014 б. С. 52-70.
- Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М.: МГУ, 1999.
- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.
- Карасик В. И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009.
- Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003.
- Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Астрель-АСТ, 2003.