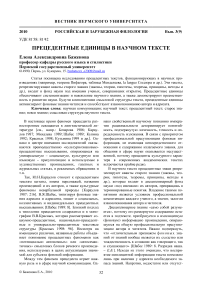Прецедентные единицы в научном тексте
Автор: Баженова Елена Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию прецедентных текстов, функционирующих в научных произведениях (например, теорема Пифагора, таблица Менделеева, la langue Соссюра и др.). Эти тексты, репрезентирующие кванты старого знания (законы, теории, гипотезы, теоремы, принципы, методы и др.), входят в фонд науки под именами ученых, совершивших открытие. Прецедентные единицы обеспечивают систематизацию и накопление научного знания, а также демонстрируют преемственность в развитии науки. Будучи компонентами смысловой структуры текста, прецедентные единицы активизируют фоновые знания читателя и способствуют взаимопониманию автора и адресата.
Научная коммуникация, научный текст, прецедентный текст, старое знание, новое знание, смысловая структура научного текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14728865
IDR: 14728865 | УДК: 81'38:
Текст научной статьи Прецедентные единицы в научном тексте
В настоящее время феномен прецедента разностороннее освещается в лингвистической литературе [см., напр.: Бочарова 1986; Караулов 1987; Михалева 1989; Шабес 1989; Купина 1992; Красных 1998; Кузьмина 1999 и др.]. Однако в центре внимания исследователей оказываются преимущественно «культурнознаковые» прецедентные высказывания, опирающиеся на универсальную – социальную, культурную или языковую – пресуппозицию и используемые в художественных произведениях, газетных и журнальных статьях, в рекламных обращениях и т.п.
Так, Ю.Н.Караулов относит к прецедентным текстам цитаты, имена персонажей, названия произведений и их авторов, а также культурные феномены невербальной природы [Караулов 1987: 216]. В.Я.Шабес, типизируя фоновые знания адресата и адресанта, пишет о социальных, коллективных и индивидуальных прецедентных высказываниях [Шабес 1989: 8]. Близкий подход к типологии прецедентов содержится и в монографии В.В.Красных, которая рассматривает социумно-прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные текстовые структуры [Красных 1998: 96]. Несмотря на имеющиеся различия, названные работы объединяет понимание прецедентных феноменов как «потенциально автономных» или «автосеман-тичных» смысловых блоков речевого произведения, используемых в целях актуализации значимой для субъекта фоновой информации.
Между тем феномен прецедента играет важную роль и в сфере научной коммуникации. Од- нако свойственный научному познанию императив рациональности детерминирует понятий-ность, подчеркнутую логичность, точность и определенность изложения. В связи с приоритетом профессиональной пресуппозиции фоновая информация, не имеющая непосредственного отношения к содержанию излагаемого знания, для общения в сфере науки оказывается несущественной, поэтому прецеденты культурного характера в современных академических текстах встречаются крайне редко.
В научном тексте прецедентные знаки репрезентируют кванты старого знания (законы, теории, гипотезы, теоремы, принципы, методы и др.), которые входят в дисциплинарный фонд науки «под именами» их авторов, превращаясь в терминированные понятия. Владение такими понятиями является условием профессиональной компетенции каждого ученого, а значит, залогом взаимопонимания автора и читателя.
Дисциплинарное знание «само собой разумеется», поэтому его развернутое содержание остается в подтексте, преобразуется в имплицитную (фоновую) информацию произведения, опирающуюся на общую профессиональную пресуппозицию автора и читателя. Важно подчеркнуть, что «отличительным признаком фоновых знаний от знаний вообще является их сходство или тождественность в сознании как говорящего, так и слушающего» [Шабес 1989: 8. Разрядка наша. – Е.Б.]. Исходя из этого очевидно, что восприятие имплицитной информации текста возможно лишь при наличии у адресата необходимого запаса знаний. Напротив, недостаток или отсутст- вие профессиональной пресуппозиции является препятствием в научной коммуникации (особенно в диалоге представителей разных специальностей) и может привести к неполному или искаженному пониманию не только имплицитных, но и эксплицитных смыслов произведения.
Языковым сигналом прецедента выступает именное словосочетание, включающее существительное с общенаучной семантикой и антропоним (или производное от него притяжательное прилагательное), например: таблица Менделеева, теорема Пифагора, геометрия Лобачевского, ergon и energia Гумбольдта, la langue Соссюра, чужая речь Бахтина, планковский спектр, риманово пространство, броуновское движение и др.
Прецеденты обладают большой семантической емкостью при минимальной формальной вместимости, так как являются результатом смысловой компрессии содержания исходных текстов (прототекстов) и формой их метонимической замены (по выражению М.М.Бахтина, «аббревиатурой высказывания»).
В гносеологическом плане прецедентный текст иллюстрирует один из типичных приемов сжатия старого знания с целью его сохранения, уплотнения и дальнейшего накопления. В этом аспекте прецедентный текст является средством выражения научных констант, выполняющих функцию ориентирования в пространстве множества научных идей. В лингвистическом плане прецедентный текст характеризуется признаками автосемантичности, дейктичности и итеративности, т.е. многократной повторяемости (реинтерпретируемости) в интертекстуальном ряду [см.: Михалева 1989: 4].
Как правило, благодаря прецедентному тексту в научном произведении актуализируется онтологическое (предметное) и методологическое содержание старого знания. Так, на онтологическое содержание указывают прецеденты, обозначающие объект познания, см.: излучение Вавилова-Черенкова, планковский спектр , пространство Минковского, риманово пространство , геометрия Лобачевского, марковский процесс , рентгеновское излучение , решето Эратосфена, волна де Бройля, хаббловская скорость , броуновское движение , эффект Допплера, течение Пуазейля, граница Гутенберга, переходный слой Голицына, дефект по Френкелю, цикл Карно, многочлен Чебышева, ферми- газ , галактики Сейферта, комета Галлея, ноосфера Вернадского, поверхность Конрада, ergon и energia Гумбольдта, la langue Соссюра, чужая речь Бахтина, функциональная грамматика А.В.Бондарко и др.
Методологическое содержание идей предшественников получает реализацию посредством обозначения:
-
а) форм знания: закон Бойля-Мариотта, законы Менделя, теория Соссюра, уравнение Вандер-Ваальса, теорема Гаусса, формула Томпсона, гипотеза Сепира-Уорфа, принцип Ферма, постулаты Бора и др.;
-
б) теоретических средств познания: вектор Умова-Пойтинга, правила Кирхгофа, постоянная Планка, марковские модели , условие Деблина, функционал Ляпунова , лагранжева координата , сила Лоренца, преобразования Галилея, ряд Фурье, гауссовская мера , бином Ньютона, полином Лежандра, фурье- анализ , диаграмма Герцшпрунга-Ресселла и др.;
-
в) инструментов эмпирического познания: тест Люшера, опыты Столетова по фотоэффекту, шкала Цельсия, юлианский календарь , статистика Бозе-Эйнштейна и др.
В контексте это выглядит так: Марковские процессы отличаются взаимной сингулярностью условных переходных распределений (Мал., 4); С тохастический интеграл понимается как интеграл Лебега-Стилтьеса (Бел., 19); Решение уравнения… представляет собой проблему типа Стефана (Кв., 23); Для любой… борелев-ской меры … с конечной вариацией на гильбертовом пространстве Н выполнено (Дячк., 46); Синусоидальная волна не имеет гармоник, но когда она трансформируется в пилообразную, то ее фурье-спектр содержит много обертонов (Зельд. I, 374); Опытные данные обрабатывались по уравнению Аврами - Ерофеева (Резн., 32); Ветвь описывает влияние свободной конвекции на устойчивость течения Пуазейля (Герш., 92); С ростом числа Грасгофа … происходит увеличение критического числа Рейнольдса (там же); Специфические свойства пространства Минковского ( преобразований Лоренца ) приводят к тому, что сохраняется понятие абсолютного прошлого и абсолютного будущего (Зельд. II, 676).
Как следует из примеров, отсылки к старому знанию не просто компрессируют его содержание, но и выступают личностными знаками, маркированные именами ученых, внесших значительный вклад в развитие науки. По мнению Ю.А.Сорокина, «тексты, имеющие личностный знак, есть свидетельство того, что в определенный момент начинается процесс номинации фактов природы и фактов культуры и тем самым начинается процесс антропоморфизации природы и персонификации культуры».
Как видим, для науки также характерен «процесс номинации» квантов знания, в результате чего имена ученых включаются в вертикальный контекст научного универсума, становятся прецедентными именами и получают статус общепонятных и общезначимых символов старого знания. Одно упоминание имени оказывается достаточным для того, чтобы адресат извлек из своего интеллектуального «архива» эпистемиче-ское содержание, связанное с этим именем. Поэтому, кстати, прецеденты не сопровождаются библиографическими ссылками и сносками: они либо не нужны, поскольку «и так все понятно», либо не важны, поскольку важно содержание. Кроме того, сам источник (прототекст) часто «забывается» именно в силу своей нерелевантности, а прецедентные феномены переходят в число автономных [см.: Красных 1998: 95].
Как происходит преобразование исходного научного текста в прецедентный знак?
Реконструируя вероятный «исторический путь» того или иного открытия, можно предположить, что, во-первых, это открытие подвергается многократной теоретической и эмпирической проверке. Во-вторых, текст, давший жизнь «прорывной» научной идее, многократно интерпретируется, со временем достигая некоего инварианта восприятия и приобретая признаки научной «легенды» или «мифа». В-третьих, познавательная форма (закон, теория, гипотеза и др.), в которой идея была представлена научному сообществу, становится методом исследования новых объектов. В результате апробированное, проверенное практикой знание получает статус истинного и обязательного для профессиональной подготовки новых поколений ученых.
В то же время развитие науки требует упорядочения ее фактов, и самым естественным способом «наведения порядка» в научном знании является их именная маркировка. Постепенно имя ученого – автора новаторской идеи или открытия – начинает отождествляться с сущностью самой теории, замещает содержание этой теории и воспринимается как семиотически зафиксированный ориентир, указывающий на хрестоматийное научное знание, известное каждому специалисту и потому не нуждающееся в объяснении.
Таким нам представляется возможный генезис прецедентного текста, «прецедентность» которого основывается на его «сущностной дейк-тичности» [Бурвикова, Костомаров 1995: 4].
Закономерно, что ученые – субъекты старого знания, обогатившие науку плодотворными идеями, – приобретают в научном мире общепризнанный авторитет. К их именам новые поколения исследователей уже апеллируют как к конвенционально закрепленному знаку дисциплинарного знания (хотя достоверность этого знания со временем может быть и опровергнута). В связи с этим прецедентные тексты оказываются «добавочно защищенными» и вызывающими «эффект ореола» [Сорокин 1985: 73], связанный со способностью воздействовать на адресата силой самого имени автора. Об этом писал и М.Фуко, см.: «Имена собственные – прецедентные тексты – индикаторы, которыми маркируются дискурсы, чтобы быть принятыми в качестве доказанных» [Фуко 1996: 24].
Таким образом, прецедентный текст, функционирующий в научной коммуникации, демонстрирует механизм семантического свертывания прототекста, обеспечивающий систематизацию, уплотнение и накопление научного знания, сохранение научной традиции и преемственность познания. Прецеденты отражают тенденцию к приоритету субъектной стороны эвристической деятельности. Кроме того, прецедентные знаки обеспечивают ориентацию членов научного сообщества в дисциплинарном фонде знания, являются средством активизации фоновых знаний читателя и объединяют апперцепционную базу автора и адресата, обеспечивая их понимание «без слов». Наконец, прецедентный текст является средством «экономии» текстового пространства за счет компрессии содержания старого знания.
Таким образом, прецедентные знаки научного характера являются функционально-стил ев ой разновидностью общекультурного феномена прецедентности. Как мы пытались показать, их гносеологические, прагматические и собственно речевые признаки обусловлены особыми задачами общения в сфере науки, главная из которых – изложение нового научного знания и убеждение читателя в его достоверности. Данная целеустановка формирует смысловую доминанту научного текста, логическое развитие его содержания и ограничивает ассоциации автора рамками познавательной ситуации. В связи с приоритетом профессиональной пресуппозиции фоновая информация, не имеющая непосредственного отношения к содержанию научного знания, почти полностью устраняется из академических жанров, в которых «ненаучные» прецедентные знаки встречаются редко.
Так, в наших материалах прецедентные тексты культурного характера представлены единичными случаями включения в авторский текст цитат из художественных произведений, имен библейских или мифологических персонажей; пословиц, поговорок и афоризмов; упоминания прецедентных жизненных ситуаций, вызывающих инвариантное восприятие.
Проиллюстрируем сказанное примерами (прецедентные тексты выделены полужирным шрифтом):
Прецедент-цитата: Чтобы понять, как создаются тексты, «из какого сора растут стихи» , следует, видимо, посмотреть на ту первичную реальность, с которой сталкивается человек на всех уровнях своей жизнедеятельности (Вас., 81);
Прагматическое значение формируется под давлением ряда факторов. Покажем это на следующем примере… Когда дипломат говорит «да», он хочет сказать «может быть»; когда он говорит «может быть», он хочет сказать «нет», а если он говорит «нет», он не дипломат; когда леди говорит «нет», она хочет сказать «может быть», когда она говорит «может быть», она хочет сказать «да», а если она говорит «да», она не леди . Мы воспользовались английской версией стихотворения Вольтера… поскольку в ней повторяется основная формула прагматического значения… (Ар., 356).
Прецедент-мифологема: Из сравнительно безмятежной сферы соссюровского языка… мы переходим в запутанную сферу всей совокупности человеческих взаимодействий, осуществляемых с помощью речевых средств. Именно эту сферу Витгенштейн неосторожно назвал «языковыми играми». Этим он обрек потомков на взаимное непонимание, а заодно и на поиски, которые по большей части напоминают вычерпывание бочки Данаид (Фр., 98).
Прецедент-поговорка: Синтез есть целенаправленная операция, осуществляемая субъектом деятельности для получения желаемого результата, который и определяет отбор соединяемых элементов по их количественным и качественным характеристикам… Другими словами, в отношении синтезируемых элементов справедлив принцип, выраженный известной поговоркой: «Из песни слова не выкинешь» (Вас., 135).
Прецедент-афоризм: В 1976 году я был изгнан из Института языкознания АН СССР и в конце концов был вынужден эмигрировать. Вскоре за границей оказался и Жолковский. После этого не осталось никаких надежд на публикацию ТКС (толково-комбинаторного словаря. – Е.Б.) в СССР. Но, как известно, рукописи не горят (Мельч., 4-5);
Защитники тех или иных неортодоксальных концепций хорошо усвоили тезис, согласно которому лучший способ защиты – это нападение (Зельд. I, 145);
Эта книга адресована тем, кто считает, что «лучше знать мало, чем понимать плохо» (Бр., 6).
Пр ец ед ент-ситуация: Установлены три типа отношений синтаксической единицы и коммуникативной,.. которые как бы составляют вершины треугольника… Когда мы заимствуем понятие из другой научной области, особенно важно прослеживать специфику его содержания для данной сферы употребления… Например, тот же «треугольник» применительно к людям, скажем, классический «любовный треугольник» или «треугольник» в смысле руководства учреждения… (Зол., 89).
Прецедент-тривиальная истина: Идея стационарности Вселенной… обладает большой привлекательностью, основанной, вероятно, на инерции мышления. Человек привык к малым скоростям (Зельд. I, 123).
Прецедентность выделенных высказываний связана, во-первых, с их опорой на универсальную пресуппозицию, апелляцией к «культурной памяти» и образному мышлению читателя, его обыденным представлениям и социальному опыту. Во-вторых, эти прецедентные тексты обладают самодостаточностью и относительной независимостью от окружающего контекста. В-третьих, общепринятость и узнаваемость делают необязательным их маркирование кавычками и ссылками на источник. Кроме того, все приведенные прецедентные высказывания могут быть изъяты из произведения без потери их познавательно-эстетической ценности и использованы как отдельные мини-тексты.
Наши наблюдения показывают, что прецедентные тексты культурного характера выполняют в научном тексте следующие функции:
-
– маркируют завершение микротемы текста и обобщают вышесказанное посредством общепринятого и потому бесспорного утверждения;
-
– обеспечивают сопоставление научных понятий с явлениями обыденной жизни для лучшего усвоения интеллектуального содержания;
-
– иллюстрируют теоретические положения концепции;
-
– активизируют образное и ассоциативное мышление читателя.
В то же время использование в научном произведении прецедентных текстов из общего культурного архива свидетельствует о яркой речевой индивидуальности автора и его стремлении облегчить читателю восприятие, понимание и усвоение интеллектуальной информации текста.
Professor of Russian Language and Stylistics Department
Perm State University
Список литературы Прецедентные единицы в научном тексте
- Ар. -Арутюнова Н.Д. Фактор адресата//Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. Т. 40, № 4. 1981. С. 356-367.
- Бр. -Братухин Ю.К., Макаров С.О. Межфазная конвекция. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. 235 с.
- Бел. -Беляев Ю.К., Замятин А.А. Множительная оценка функции распределения длительности жизни частицы в процессе Беллмана -Харриса//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Математика. Механика. 1987. № 2. С. 15-23.
- Вас. -Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. Киев: Наукова думка, 1988. 328 с.
- Герш. -Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А. Устойчивость конвективных течений. М.: Наука, 1989. 320 с.
- Дячк. -Дячкин О.Д. Об одной гармонической мере//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Математика. Механика. 1987. № 2. С. 46-49.
- Зельд. I -Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция вселенной. М.: Наука, 1975. 430 с.
- Зельд. II -Зельдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строения и эволюции звезд. М.: Изд-во МГУ, 1981. 520 с.
- Зол. -Золотова Г.А. К построению функционального синтаксиса русского языка//Проблемы функциональной грамматики. М.: Наука, 1985. С. 87-93.
- Кв. -Квашнина С.С., Пилипенко В.Н. Движение границы раздела фаз при растворении набухающих покрытий в потоке жидкости//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Математика. Механика. 1987. № 2. С. 23-26.
- Мал. -Малышев В.А., Игнатюк И.А. Локально взаимодействующие процессы с некомпактным множеством значений//Там же. С. 3-7.
- Мельч. -Мельчук И.А. Русский язык в модели «смысл ⇔ текст». М.; Вена: Языки русской культуры, 1995. 640 с.
- Резн. -Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов. М.: Изд-во МГУ, 1991. 350 с.
- Фр. -Фрумкина Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология?//Язык и наука конца ХХ в. М.: Изд-во РГГУ, 1995. С. 74-117.
- Бочарова Т.Г. Потенциально автономные высказывания//Структурно-семантические единицы текста (на сопоставительной основе французского и русского языков): Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. Вып. 267. М., 1986. С. 61-80.
- Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. Прецедентный текст как единица нелинейного понимания//Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. С. 4.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 340 с.
- Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? М.: Изд-во МГУ, 1998. 320 с.
- Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Омск: Омск. ун-т, 1999. 285 с.
- Купина Н.А. Текстовая фоновая информация и ее компоненты//Вопросы стилистики. Вып. 24. Текст и его компоненты. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. С. 17-26.
- Михалева И.М. Текст в тексте: психолингвистический анализ: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. 16 с.
- Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М.: Высшая школа, 1985. 280 с.
- Фуко М. Воля к истине. М.: Магистериум, 1996. 320 с.
- Шабес В.Я. Событие и текст. М.: Высшая школа, 1989. 250 с.