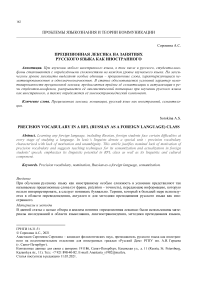Прецизионная лексика на занятиях русского языка как иностранного
Автор: Сорокина Анастасия Сергеевна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Проблемы языкознания и теории коммуникации
Статья в выпуске: 4 (130), 2021 года.
Бесплатный доступ
При изучении любого иностранного языка, в том числе и русского, студенты-инофоны сталкиваются с определёнными сложностями на каждом уровне изучаемого языка. На лексическом уровне лингвисты выделяют особые единицы - прецизионные слова, характеризующиеся немотивированностью и однозначнозначностью. В статье обосновывается условный характер немотивированности прецизионной лексики, предлагаются приёмы её семантизации и актуализации в речи студентов-инофонов, раскрывается её лингвистический потенциал при изучении русского языка как иностранного, а также определяется её лингвострановедческий компонент.
Прецизионная лексика, номинация, русский язык как иностранный, семантизация
Короткий адрес: https://sciup.org/148322720
IDR: 148322720
Текст научной статьи Прецизионная лексика на занятиях русского языка как иностранного
При обучении русскому языку как иностранному особую сложность в усвоении представляют так называемые прецизионные слова (от франц. précision – точность), передающие информацию, которую нельзя интерпретировать, а следует понимать буквально. Термин, который в большей мере используется в области переводоведения, актуален и для методики преподавания русского языка как иностранного.
Материалы и методы
В данной статье с целью обзора и анализа понятия «прецизионная лексика» были использованы материалы исследований в области языкознания, лингвострановедения, методики преподавания языков,
ГРНТИ 16.31.51
Анастасия Сергеевна Сорокина – кандидат филологических наук, преподаватель русского языка как иностранного на подготовительном отделении для иностранных граждан «Русский Дом» РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
Статья поступила в редакцию 11.05.2021.
также использованы материалы справочной литературы, охватывающей словарные статьи узкоспециализированных словарей.
Результаты и их обсуждение
К прецизионной лексике, согласно толковому словарю переводческих терминов, относят «однозначные, но, в отличие от терминов, общеупотребительные слова, не вызывающие, как правило, конкретных ассоциаций… К прецизионным словам относятся имена собственные, названия дней недели и месяцев, числительные» [8, с. 165]. В первой части приведенного определения сформулирована основная дидактическая сложность данного слоя лексики – немотивированность этих номинативных единиц, то есть отсутствие коннотативных связей звукобуквенной формы слова с его содержанием.
С этой точки зрения, на начальном этапе изучения любого языка, все слова по сути своей являются прецизионными, они «молчат» и только благодаря разным приёмам семантизации (наглядности, переводу) слова «обретают жизнь» и начинают «сообщать» о своём значении. Однако не все слова легко поддаются основным способам выявления содержащихся в них смыслов. Существуют и такие, которые «сопротивляются» и с трудом «заговаривают» со студентами-инофонами. На первый взгляд, немотивированные лексические единицы, к которым относят прецизионные слова, на самом деле требуют несколько больших усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов для декодирования заложенной в них информации.
По мнению А.В. Малинка и О.В. Нагель, с точки зрения когнитивной лингвистики, приведённое выше определение требует уточнения, так как сформулированное Р.К. Миньяр-Белоручевым и Л.Л. Нелюбиным «отсутствие конкретных ассоциаций» не соответствует исследованиям в области номинации. В частности, В.Н. Телия, изучая процессы номинации, выделяет первичную и вторичную мотивированность лексической единицы [12]. Первичная мотивированность, то есть изначально установленные отношения «семантического треугольника» (реалия – понятие – имя), непродуктивна ввиду того, что может быть обнаружена лишь ретроспективно в результате этимологического или исторического анализа.
Поскольку отсутствие корреляции между звукобуквенной формой и содержанием прецизионных номинаций носит условный характер, под этим термином вслед за А.В. Малинка и О.В. Нагель следует понимать такие «номинативные единицы, <которые представлены> числительными, именами собственными и названиями дней недели и месяцев, как общеупотребительные языковые единицы, точно определяющие некоторый ментальный образ» [5, с. 50]. Упоминаемый авторами частотный характер рассматриваемых номинаций подчёркивает их важность в процессе обучения. Зачастую прецизионная информация является ключевой для понимания содержания прочитанного или услышанного текста, именно поэтому требует особых учебных действий по её семантизации.
Сложность для студентов будет заключаться, прежде всего, в том, что ментальный образ, который стоит за внешней формой слова, в лексической единице русского языка для них неочевиден. И задача работы над прецизионной лексикой в курсе овладения русским языком как иностранным состоит именно в том, чтобы звуковая форма номинации стала мотивированной настолько, чтобы снять трудности её декодирования в первую очередь при восприятии устных текстов.
Как говорилось выше, прецизионные слова в силу передачи точной фактической информации, актуализируются в нашем сознании буквально. При восприятии письменного текста визуальная опора в виде числа или слова значительно сглаживает трудность понимания, так как есть возможность обратиться к справочной информации, например к комментариям к тексту. Устная же речь и её восприятие диктуют свои условия декодирования информации. Чаще всего оно должно состояться «здесь и сейчас», в момент получения информации по аудиоканалу.
Обратим внимание на то, что задания на поиск фактической информации обычно предлагаются студентам после первого прослушивания аудиотекста (как зовут героев текста или участников диалога, сколько их, где они находятся, куда направляются, в каком городе живут, в каком году родились и т.п.). Предполагается, что студент с первого предъявления аудиозаписи может воспринять, осознать и воспроизвести дословно прецизионную информацию. Буквальный смысл, отсутствие полисемии прецизионной лексики, казалось бы, снимают необходимость проводить излишнюю умственную работу по расшифровке полученных данных. Между тем, отсутствие многозначности не становится фактором для успешного выполнения подобных заданий с первой попытки.
Поступающие извне речевые сигналы проходят этап сличения со стереотипами лексических единиц, хранящимися в памяти, отсутствие которых повлечёт за собой игнорирование слушающим отдельных лексических единиц в потоке речи говорящего. Таким образом, в цепочке слов, составляющих предложение, образуются ментальные лакуны. При отсутствии прецизионной лексики эти «белые пятна» восполняются языковой догадкой, контекстом или вовсе остаются без внимания, поскольку несут второстепенную информацию. Но, если в «слепую» зону попадают прецизионные слова, восстановить их за счет лексического окружения невозможно, именно поэтому формирование стереотипов лексики, относящейся к прецизионной, на уровне долговременной памяти может стать одной из основных учебных задач, которая ставится перед преподавателем русского языка как иностранного (РКИ).
Исходя из определения прецизионных слов, можно сделать вывод, что они имеют словесное и цифровое выражение, и каждая из этих групп требует особой работы по их семантизации, активизации и закреплению в речи студентов. Если цифровые значения активно осваиваются студентами на начальном этапе изучения языка, что естественным образом обосновано необходимостью решения коммуникативных задач социально-бытовых ситуаций (время, номер телефона, стоимость, номер маршрута общественного транспорта и т.д.), то в дальнейшем доля числительных и заданий на их активизацию в учебных текстах значительно сокращается.
На начальном этапе достаточно эффективно конкретные ассоциации при освоении числительных, месяцев и дней недели формируются при соотнесении названий дней недели и месяцев с их порядковым числом в ряду от начала до конца недели или года (учащиеся реагируют на название дня недели или месяца числом, например: понедельник – 1, июнь – 6, и наоборот). Каждая группа слов отрабатывается отдельно, а на этапе закрепления они могут быть предложены одновременно [6, с. 149]. Усилить эффект запоминания могут мнемонические техники, основанные на ассоциациях, в частности, «система формы цифр» Т. Бьюзена [1].
Для дальнейшего восполнения учебного материала по данной теме эффективным представляется выполнение небольших заданий в начале занятия, помимо фонетической и речевой разминки. Это может быть интерактивная работа с генератором случайных чисел, мини-диктанты изолированных чисел или мини-тексты, содержащие числительные, которые необходимо извлечь из прослушанного текста, а также занимательные упражнения на арифметические действия, например упражнение «цифровая пирамида».
Полезным пособием для регулярной работы с числительными на уровне В1 и выше может стать пособие В.К. Лебедева «Знакомьтесь: числительное» [4], в котором автор предлагает ситуации употребления числительных от бытовых до официальных с системой разноуровневых упражнений для закрепления грамматических, лексических навыков, а также навыков правописания. Активному применению числительных в речи студентов послужат комментарии к небольшим статистическим таблицам или опросам, содержащим данные по актуальным вопросам политической, социальной и культурной жизни России. Практика показывает, что такие задания находят положительный отклик у студентов.
К прецизионным словам, имеющим словесное выражение, лингвисты относят названия дней недели и месяцев, а также имена собственные, которые подразделяются на топонимы и антропонимы. Анализ объёма подобной лексики в учебных пособиях по РКИ демонстрирует следующую тенденцию: от минимального ко всё возрастающему объему не только в количественном, но и в качественном значении. Если на начальном этапе студенты знакомятся с самыми основными топонимами (названием столицы и города, в котором они учатся, улицы, на которой находится их ВУЗ, и т.п.) и антропонимами (распространёнными именами, формой дружеского и уважительного обращения), то на последующих этапах в орбиту внимания студентов вовлекаются антропонимы и топонимы, заключающие в себе страноведческую информацию (имена известных учёных, государственных деятелей, деятелей культуры, наименованиями исторических событий, географические названия и т.д.).
Подобные прецизионные слова, не вызывая конкретных ассоциаций, будут для иностранных студентов «безóбразными», пустыми. Как известно, предметные слова запоминаются намного лучше абстрактных в силу того, что они называют конкретный материальный объект реальности, который можно «присвоить» эмпирическим путём. Принцип наглядности в обучении языку отражает эту осо- бенность памяти и широко используется на начальном этапе обучения языку. Однако наглядность может быть не только предметной, но и умозрительной.
Понятию, чтобы стать частью языковой картины мира студента, необходимо материализоваться не только в своей фонетической, то есть быть услышанным, и графической, то есть быть написанным, форме, но и в конкретном ментальном образе или ассоциации. Знакомство с топонимами и антропонимами в курсе РКИ непосредственно связано с лингвострановедческим аспектом обучения, который реализуется в формировании и пополнении фоновых знаний студентов. Подключение к фоновым знаниям происходит уже на этапе осознанного выбора языка для изучения, потому как за названием каждой страны стоит определённый комплекс идей, ассоциаций и представлений, которые формируют отношение студента к изучаемому языку. С течением времени лингвострановедческий багаж студен-та-инофона непрерывно пополняется, тем самым прокладывается путь к пониманию мировоззрения, образа жизни, традиций носителей конкретного языка.
Лингвострановедение как филологическая дисциплина осваивается студентами в ходе практических занятий по русскому языку и охватывает широкий пласт лексики, отражающей национальные особенности страны изучаемого языка. Н.Л. Федотова указывает на двоякое понимание реалии, которое считается одним из объектов лингвострановедения. С одной стороны, это «предмет, понятие, явление, характерное для культуры, быта, уклада народа, страны и не встречающееся у других народов», а с другой стороны, это «слово, обозначающее предмет, явление; также словосочетание (обычно фразеологизм, пословица, поговорка, включающие такие слова)» [14, с. 137-138].
Будучи прецизионными словами, имена собственные требуют особого подхода. Закономерно, что подобную лексику нередко относят к разряду лексических трудностей и выносят работу с ней на предтекстовый этап при чтении или этап до прослушивания при аудировании, ограничиваясь комментарием, поясняющим имя собственное. Нередко сам предъявляемый текст является развёрнутым комментарием к определённому топониму или антропониму (краткая биография деятеля культуры или науки и т.п.), и тогда работа с подобным текстом носит ознакомительный характер. Между тем, подобные тексты насыщены датами и именами собственными, которые сами по себе заслуживают отдельного внимания и отработки.
Топонимы и антропонимы составляют неотъемлемую часть своеобразия каждой отдельной культуры и несут в себе не только ценный лингвострановедческий потенциал, но также дидактический потенциал для изучения тех или иных элементов грамматической и фонетической систем русского языка. С морфологической точки зрения топоним состоит из «топоосновы» – «смыслово<го> компо-нент<а> географического названия … <который> в чистом виде не существу<ет> и «топоформанта» – вспомогательн<ого> элемент<а>» [11, с. 101-102]. К топоформантам относят «суффиксы или равнозначные им служебные морфемы, используемые как средство топонимического словопроизводства» [15, с. 137]. Структурный анализ топонима свидетельствует об идентичности его морфологического состава составу имени нарицательного, что даёт возможность обратить внимание на лингвистический потенциал географических названий.
Согласно исследованию, проведённому Г.О. Некипеловой, все топонимы за редким исключением «подчиняются грамматическим законам языка, имеют все свойственные нарицательным именам способы словоизменения и словообразования» [7, с. 9-10]. Именно поэтому имена собственные могут включаться уже в базовую лексику, служить языковым материалом и использоваться в языковых упражнениях для закрепления грамматических навыков. Например, топонимы могут быть использованы для отработки и закрепления словообразовательной модели качественных прилагательных с суффиксами -енск-, -ск-, -инск-, -овск- и т.д. (Мтищи – мтищинский, Ленинград – ленинградский, Москва – московский и т.д.), которые, в свою очередь, будут образовывать составные топонимы (Московский вокзал, Ленинградская область и т.п.).
Семантизация имён собственных может проходить посредством составления лингвострановедческого паспорта, используемый как «эффективный способ управления учебным процессом» [Воскресенская]. Этот приём, предложенный Л.Б. Воскресенской, предполагает актуализацию внеязыковых сведений через описание, установление парадигматических связей и синтаксической сочетаемости ключевого слова [2]. Такая работа оформляется в виде таблицы из трёх колонок: первая заполняется ключевыми словами, во вторую вписываются единицы лингвострановедческой информации, то есть языковые данные по ключевому слову (например, тематические связи), доступные студентам на дан- ном этапе освоения языка, а третья отражает возможные синтаксические модели реализации внеязы-ковых сведений, содержащихся в ключевом слове [2, c. 82-84].
Компактное представление обширной лингвострановедческой информации в виде нелинейного текста в значительной мере упрощает процесс её запоминания. Ещё одним продуктивным приёмом может стать работа с географической картой. Обращение к ней будет стимулировать познавательные способности студентов, приглашая их к поиску и открытию, расширяя тем самым их географические познания. Оперируя определенным набором языковых конструкций, можно отработать лексикограмматические навыки студентов (Нева берёт свое начало в Ладожском озере. Нева впадает в Финский залив. Дунай берёт своё начало в горах. Дунай впадает в Чёрное море).
Как известно, игровой элемент на практических занятиях по языку позволяет оживить процесс обучения и сделать его более привлекательным, тем более что он может содержать соревновательный компонент. С этой целью представляется эффективным использование лексических игр с или без визуальной опоры, игровые упражнения на ассоциации или игры с использованием слов-стимулов. Для создания подобных упражнений можно обратиться к образовательным Интернет-ресурсам, которые обеспечат интерактивность процесса обучения и сделают его соответствующим современным требованиям.
Особое место в процессе преподавания русского языка занимают антропонимы. Уже с первого занятия студенты сталкиваются с русской антропонимической системой, которая в значительной мере отличается от западноевропейской и азиатской. Для создания комфортного и безболезненного взаимодействия двух систем, носителями которых, соответственно, являются преподаватель и студент, в частности, китайским студентам преподаватель предлагает альтернативную модель взаимодействия: заменяет своё отчество обращением «преподаватель» (что соответствует существующей в Китае традиции), а иностранным студентам предлагает выбрать себе русское имя. С одной стороны, подобный компромисс уже на начальной стадии изучения русского языка способствует более быстрому установлению контакта между преподавателем и студентами, но, с другой, может отчасти скомпрометировать важность изучения лингвострановедческих аспектов русской культуры.
Трехкомпонентный антропоним (личное имя, патроним и фамилия), принятый в отечественной антропонимической традиции, является неотъемлемой частью своеобразия русской культуры, соответственно, является одной из тех реалий, которым следует уделить время для изучения в рамках формирования лингвострановедческой компетенции у студентов. Антропоним, как вариант наименования человека, содержащий культурный код и отражающий национальные особенности картины мира, – это не только формула словесной идентификации индивидуума, но и в определенной степени ключ к пониманию социального устройства и взаимодействия его участников.
Как способ выражения социальной и возрастной дистанции между собеседниками антропоним имеет прикладное эмпирическое значение. Учебная ситуация общения, которая складывается на занятии, несёт в себе модель, которая впоследствии переносится студентами в ситуации повседневного общения вне стен университета. Будучи предложенной в адаптированном виде, вариант которого был описан выше, она может привести к досадным недоразумениям. Предвосхищая и минимизируя возможность их возникновения, следует обратить внимание студентов на важность её усвоения и применения. С этой целью можно подойти к вопросу представления русских антропонимов с позиций линг-вострановедения, объяснив, почему модель наименования человека в русской культуре трёхчастная и что означает каждый её элемент [13, c. 11-35].
Эти знания станут полезной вспомогательной информацией для понимания особенностей склонения русских фамилий, постановки ударения, а морфологический разбор, например, отчеств раскроет секреты значений отдельных формантов (суффикс -н- в значении «дочь»: царь – царевна, Иван – Иванов – Ивановна, а также его сему женского рода: дань, ругань; или, например, сему принадлежности суффикса -ов-: дед – дедов, сад – садовый, Иван – Иванов). Продемонстрировав эти скрытые смыслы русских отчеств и фамилий и предложив несколько тренировочных упражнений на данном материале, возможно пробудить неподдельный интерес к культуре русского имени и привести студентов к осознанному их использованию.
Обращение к выявлению семантической мотивированности морфологических элементов будет способствовать развитию у студентов аналитического мышления, формированию такого важного навыка, как языковая догадка, а также таких качеств, как внимательность и проницательность. Таким образом, продуктивность словообразовательных моделей русских отчеств и имён позволяет использовать их как богатый материал для работы в направлении формирования грамматических навыков.
Не менее эффективным представляется использование антропонимов с точки зрения демонстрации орфоэпических норм русского языка. Помимо полных форм, возникает необходимость познакомить студентов со стяжёнными формами русских отчеств, появление которых продиктовано закономерностями функционирования системы нормативного произношения [10, с. 375-376]. Частотность употребления отчеств в повседневной жизни подводит к мысли о важности и необходимости объяснения и этого аспекта бытования русских патронимов.
Заключение
Анализ теоретической, методической и справочной литературы по прецизионной лексике показывает, что немотивированность данной группы слов можно считать условной и вполне преодолимой благодаря разнообразию методических приёмов при работе по её семантизации. Разностороннее декодирование прецизионной лексики с точки зрения семантического наполнения, морфологического состава, фонетического и орфоэпического образа, а также при сопровождении её лингвострановедческим комментарием сделает подобные лексические единицы не «молчаливыми» словоформами, а «говорящими», мотивированными ментальными образами, а, следовательно, на карте языковой картины мира студента-инофона количество «тёмных пятен» будет неуклонно сокращаться.
Коммуникативный подход, на котором основана современная методика преподавания языка, требует овладения наиболее частотными речевыми образцами и лексическими единицами. К последним, несомненно, можно отнести прецизионные слова, поэтому, чем детальнее, пусть даже в рамках учебных ситуаций, будет отработана прецизионная лексика, тем меньше будет количество потенциальных коммуникативных неудач у студентов-инофонов в будущем.
Список литературы Прецизионная лексика на занятиях русского языка как иностранного
- Бьюзен Т. Память. Минск: Попурри, 2015. 224 с.
- Воскресенская Л.Б. Об использовании эмпирических и рекомендательных паспортов фоновой лексики на начальном этапе обучения русскому языку // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1984. С. 157-163.
- Воскресенская Л.Б. Лингвострановедческий паспорт слова // Русский язык за рубежом. 1981. № 2. С. 79-84.
- Лебедев В.К. Знакомьтесь: числительное. СПб.: Златоуст, 2017. 132 с.
- Малинка А.В., Нагель О.В. Лексическая номинация: ономасиологический и когнитивный подходы // Язык и культура. 2011. № 4 (16).
- Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. М.: Просвещение, 1990. 224 с.
- Некипелова Г.О. Лингвокраеведение в преподавании русского языка как иностранного: диссертация ... кандидата педагогических наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб., 2001. 237 с.
- Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта; Наука, 2000. 320 с.
- Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М.: Русские словари: Астрель: Аст, 2002. 512 с.
- Розенталь Д.Е., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М.: ЧеРо, 1999. 496 с.
- Суперанская А.В. Что такое топонимика? М.: Наука, 1985. 182 с.
- Телия В.Н. Номинация // Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 336-337.
- Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989. 440 с.
- Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический курс). СПб.: Златоуст, 2016. 192 с.
- Фролов Н.К. Топонимика и этнонимика // Избранные работы по языкознанию. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2005. С. 137-154.
- Хвесько Т.В. Способы образования топонимов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 107-113.