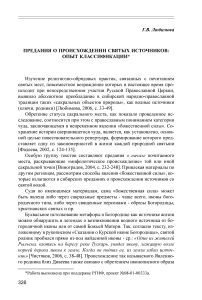Предания о происхождении святых источников: опыт классификации
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521462
IDR: 14521462
Текст статьи Предания о происхождении святых источников: опыт классификации
Судя по имеющимся материалам, сама «божественная сила» может быть явлена либо через сакральные предметы - чаще всего, иконы богородичного типа, либо через священные персонажи - образы Богородицы, христианских святых и пр.
Буквальное истолкование метафоры о Богородице как источнике жизни можно обнаружить в легендах о возникновении водного источника от богородичной иконы или от самой Божьей Матери. Так, согласно тексту, изложенному в рукописном «Сказании о Курской иконе Богородицы», святой родник пробился прямо из-под найденной иконы - ср.: «Один из жителей Рыльска, охотясь на берегу реки Тускарь, увидел икону, лежащую возле корней дерева ликом к земле. Когда он поднял ее, из земли забил источник» [Чистяков, 2006, с. 38-48]. Происхождение так называемого Явленного родника близ Дивеева также связано с обретением иконописного образа
Богородицы - ср.: «И вот подняли плиту, а на одной-то стороне - отец Серафим, а на другой-то стороне - (образ ) “Умиление” Божьей Матери… И стал родник, целительный…» [Тульцева, 2005, с. 419-423].
Как правило, появление сакрального предмета в подобных текстах предшествует возникновению водного источника. Однако в ряде случаев придание сакрального статуса уже известному элементу ландшафта происходит после явления в воде «божественных ликов». Такова история почитаемого места, расположенного возле с. Жуланиха Заринского р-на Алтайского края, самое раннее упоминание о котором относится к 1898 г. Именно тогда, как рассказывают, деревенский пастух, захотевший напиться воды, впервые «увидел в роднике лик, икону Божьей Матери, всю в цветах» . Позже родник был освящен батюшкой из деревенской церкви (ПМА, 2001).
Аналогичные предания о всплывающих время от времени из родника «божественных ликах» были зафиксированы в с. Усть-Серта Чебулинско-го р-на Кемеровской обл. (ПМА, 2002). Сама символика приплывания/ уплывания, как пишет в этой связи А.А. Панченко, состоит в подчеркивании потустороннего, в том числе, сакрального, статуса приплывающего/уплы-вающего предмета. Следовательно, явление или приплывание иконы, по мысли автора, также можно рассматривать как знак, посредством которого потусторонний (сакральный) мир отмечает выделенность того или иного места из окружающего пространства, сообщая ему статус священного локуса [Панченко, 1998].
Отдельную группу текстов, как уже отмечалось, составляют предания о водных источниках, забивших от следа, оставленного на камне Богородицей или иным священным персонажем. К примеру, главной святыней По-чаевского монастыря является песчаный камень, на котором, по преданию, «остался след стопы вдавленный, правой ножки Божьей Матери… И потек источник воды» [Тарабукина, 2000].
Вместе с тем, встречаются свидетельства о происхождении источников от святых мощей (так, один из расположенных в Дивеево источников вытекает, согласно преданию, «из мощей матушки Александры» - основательницы знаменитой православной обители) [Там же] и даже непосредственно от живых людей, облаченных священным статусом. Пример последнего рода можно обнаружить в рассказе священноинока Евагрия (1982 г.р.), по словам которого, енисейские старообрядцы-пустынники всегда лечились исключительно родниковой водой: «Если когда заболеем, воды напьемся из ключа. Ключ этот из-под ноги у матушки Надежды забил, он целебный был» [Мурашова, 2003].
Наконец, к особому типу текстов о возникновении источников со святой водой относятся предания, сложившиеся на основе народной исторической памяти о поворотных событиях местной истории XX в. К примеру, начало одного из наиболее почитаемых мест Алтайского края - святого ключа возле с. Сорочий Лог Первомайского р-на - возводится к событиям периода гражданской войны. Сам родник, согласно бытующим вплоть до настоящего времени представлениям, появляется на месте гибели «контрреволюционных повстанцев», превратившихся в народном сознании в «мучеников за веру», а в сознании старообрядцев - еще и в единоверцев («истинно верующих православных християн»), о чем недвусмысленно сказано в старообрядческом сочинении «Повесть о святом ключе», в качестве составной части вошедшем в так называемый Урало-Сибирский Патерик. Принадлежность погибших к сфере сакрального подтверждается в Повести таким признаком, как нетленность их тел. Более того, именно вырезанный из спины одного из убитых ремень становится тем «каналом», по которому сакральные свойства потустороннего мира получают возможность «перетекать» к месту гибели «предреченных страдальцев», сообщая ему статус священного локуса [Любимова, 2008, с. 33-49].
Характерной чертой преданий о «божественных ликах» в данном случае можно считать насыщенность их мужскими персонажами, когда наряду с явленными в воде образами Богородицы с младенцем упоминаются образы Иоанна Богослова, святителя Николая и других божьих угодников, а также тщательно выписанные образы самих погибших. Все это не исключает актуализации традиционных представлений о соотнесенности водных источников с женским божеством, проявлением которых могут служить зафиксированные случаи обетных приношений, предназначенных «непосредственно Богородице » (ПМА, 2004).
Аналогичный характер носит почитание святого ключа в п. Ложок Ис-китимского р-на Новосибирской обл. Считается, что подземный ключ пробился здесь на месте массовой гибели заключенных, с 1929 по 1956 гг. отбывавших наказание в особом лагерном пункте, входившем в систему СИБЛАГА. На установленном возле источника стенде с информацией об историческом прошлом поселка так и говорится, что «там, где когда-то царили страдания, и проливалась кровь человеческая, начинают бить родники» (ПМА, 2005).
В целом, приведенные материалы о тесной связи почитаемых комплексов с божеством, преимущественно, женским, по всей видимости, отражают народные воззрения о святых местах как особой разновидности объектов, отмеченных символикой женского исцеляющего и плодородящего начала - ср.: родник, родище - место, рождающее воду; почора, печера - пещера, печь как символ женской утробы и т.п. [Щепанская, 1999]. Не случайно большой популярностью в Ложке пользуются рассказы о случаях исцеления приезжающих паломниц от бесплодия. Таким образом, в рассмотренных преданиях происходит актуализация традиционных представлений об источниках как символе божественной благодати и богородичной помощи. Само же понятие «источник» употребляется при этом в расширительном смысле, значение которого относится и к почитаемому объекту природы, и к Богоматери как источнику жизни.