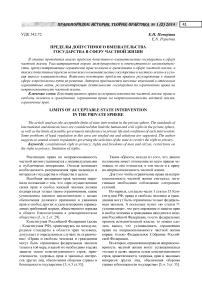Пределы допустимого вмешательства государства в сферу частной жизни
Автор: Поперина Екатерина Николаевна
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Международное право. Конституционное право
Статья в выпуске: 1 (2), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ пределов допустимого вмешательства государства в сферу частной жизни. Рассматриваются нормы международного и отечественного законодательства, предусматривающие ограничение прав человека и гражданина в сфере частной жизни, а также допустимые пределы возможного вмешательства государства в частную жизнь и условия такого вмешательства. Выявлены некоторые проблемы правого регулирования в данной сфере и предложены пути их решения. Автором предлагается внесение изменений в отдельные нормативные акты, регламентирующие деятельность государства по ограничению права на неприкосновенность частной жизни.
Конституционное право на неприкосновенность частной жизни, права и свободы человека и гражданина, ограничения права на неприкосновенность частной жизни, ограничение прав
Короткий адрес: https://sciup.org/14118845
IDR: 14118845
Текст научной статьи Пределы допустимого вмешательства государства в сферу частной жизни
Реализация права на неприкосновенность частной жизни сталкивается с индивидуальными и публичными интересами. Отсюда возникает необходимость разграничения прав индивида и интересов государства и общества в целом.
Всеобщая декларация прав человека закрепила положение о том, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [1, п. 2 ст. 29].
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), ориентируясь на международные стандарты в области прав человека, допускает в определенных случаях их ограничение: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [5, ч.3 ст.55].
Таким образом, исходя из того, что данное положение имеет отношение ко всем правам человека, то оно относится, в том числе и к праву на неприкосновенность частной жизни.
Для того чтобы ограничение права на неприкосновенность частной жизни считалось легитимным необходимо соблюдение следующих условий.
Во-первых, согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. А поскольку пункт «в» статьи 71 устанавливает, что регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находится в ведении Российской Федерации, то есть федеральных органов исполнительной власти, то можно сделать вывод, что устанавливать ограничения права на неприкосновенность частной жизни вправе только Федеральное Собрание Российской Федерации.
Во-вторых, ограничения права на неприкосновенность частной жизни могут устанавливаться «только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [5, ч. 3 ст. 55].
Таким образом, если не были нарушены основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц, обороноспособность и безопасность государства, то любые попытки ограничений права на неприкосновенность частной жизни будут являться незаконными и должны подлежать немедленному пресечению.
В-третьих, право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только в той мере, в какой это необходимо в вышеуказанных целях. Возникает вопрос: кем и каким образом должна определяться эта мера? Очевидно, что эту меру должно определять государство в лице своих органов посредством издания федеральных законов. Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) неоднократно обращался к этой проблеме в своих решениях. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» отмечалось: «Ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобренными целями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в части 3 статьи 55 Конституции РФ, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, то есть не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм; чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения [12].
Международными актами запрещено вмешательство государства в сферу частной жизни. Так, Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод запрещается «вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц» [3, п. 2 ст. 8].
Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию» [7, п. 1 ст. 17]. Таким образом, в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, вмешательство в частную жизнь не должно быть непроизвольным и незаконным. Для того чтобы уяснить суть данной нормы, необходимо произвести толкование таких понятий, как «произвольное вмешательство» и «незаконное вмешательство». Замечания Общего Порядка, принятые Комитетом по правам человека, разъяснили данные термины следующим образом:
«незаконное вмешательство» означает, что любое вмешательство запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законом. Вмешательство, разрешаемое государством, возможно только на основании закона, который должен соответствовать положениям, целям и задачам Пакта;
«произвольное вмешательство» означает, что любое вмешательство, допускаемое законом, должно соответствовать положениям, целям и задачам Пакта и являться обоснованным в конкретных обстоятельствах [4, ст. 17].
Таким образом, вмешательство государства в частную жизнь граждан является нарушением статьи 17 Пакта о гражданских и политических правах в случаях, когда это противоречит национальному законодательству.
Российское законодательство содержит правовые нормы, допускающие вмешательство в частную жизнь. Эти правовые нормы условно можно разделить на четыре группы:
-
1 группа – правовые нормы, содержащие ограничения в связи с проведением оперативнорозыскной деятельности;
-
2 группа – правовые нормы, содержащие ограничения в связи с чрезвычайным положением;
-
3 группа – правовые нормы, содержащие ограничения в связи с необходимостью выбора между правом на неприкосновенность частной жизни и другим, более важным, правом;
-
4 группа – правовые нормы, содержащие ограничения в связи с обеспечением безопасности государства, законности, основ конституционного строя.
Прежде всего, рассмотрим ограничения, связанные с проведением оперативно-розыскной деятельности.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» прямо не закрепляет право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на сбор сведений, относящихся к частной жизни, личной и семейной тайне. Однако можно предположить, что оно логично вытекает из содержания части 8 статьи 5 вышеназванного Федерального закона, где устанавливается запрет лишь на разглашение подобных сведений.
Следует обратить особое внимание на введенные в 90-х годах ХХ века системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). СОРМ-1 была введена с целью осуществления телефонного прослушивания спецслужбами по своему усмотрению. СОРМ-2, введенная немного позднее, чем СОРМ-1, была введена для перехвата электронных сообщений в сети Интернет. Данные системы не могут не оставлять широкий простор для злоупотреблений и произвола. Так, в Курганской области был удовлетворен иск бывшего председателя Шадринского районного суда Людмилы Балакиной о признании незаконным прослушивания ее телефонных разговоров. По данным правозащитников, в Амурской области прослушивающими устройствами оборудуются СИЗО и следственные кабинеты изоляторов временного содержания города Благовещенска для получения информации о том, что говорит арестованный или задержанный во время встречи с адвокатом. Так же оборудованы и некоторые камеры СИЗО. Такие камеры можно узнать по отсутствию в них радиоприемников. По неофициальному сообщению одного из работников спецслужб Краснодарского края, телефоны и другие средства связи руководителей общественных и общественно-политических объединений в крае находятся на автоматическом прослушивании [2].
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» «органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции» [10, ч. 1 ст. 5]. Кроме того, «проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации» [10, абз. 1 ч. 2 ст. 8]. Однако в соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. №86-О «По делу о проверке законности отдельных положений ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» преступное деяние не относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой запрещено собирать, хранить, использовать и распространять без его согласия. Поэтому проведение оперативно-розыскных мероприятий для решения задач оперативно-розыскной деятельности не является нарушением конституционных прав, предусмотренных статьей 24 Конституции Российской Федерации [11, п. 7].
По нашему мнению, российское законодательство в данной области по многим показателям соответствует стандартам, установленным Европейским Судом по правам человека. Сама процедура законодательно урегулирована и соответствует требованиям Европейского суда по правам человека. Прослушивание телефонов ограничено случаями, когда уже имеется информация о предполагаемом преступлении. Таким образом, законодательно запрещено прослушивание телефона по не подтвержденному фактами подозрению. Прослушивание может осуществляться только по письменному запросу и только по решению суда.
Согласно Стандартам Европейского Суда по перехвату телефонных сообщений перехват не будет считаться нарушением статьи 8 Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека, если он осуществляется на основании закона, удовлетворяющего следующим требованиям:
-
1) качество - то есть закон должен содержать эффективные заслоны возможным злоупотреблениям;
-
2) предсказуемость - то есть гражданин должен быть в состоянии самостоятельно либо с помощью адвоката предвидеть последствия какого-либо возможного действия;
-
3) доступность - то есть у гражданина должна быть возможность убедиться, что прослушивание соответствует законодательным нормам [3].
В процессе исследования были обнаружены некоторые пробелы в российском законодательстве.
В частности, эти недостатки касаются требования «качества» закона. В связи с этим предлагается внести дополнение в часть 5 статьи 6 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». В данной статье говорится о том, что информация о частной жизни гражданина не может «сообщаться органами федеральной службы безопасности кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами» [8, ч. 5 ст. 6]. По нашему мнению, для того, чтобы минимизировать злоупотребления в данной сфере, часть 5 статьи 6 должна содержать положение о том, что информацию такого рода следует уничтожать сразу же по достижении поставленной цели. Таким образом, предлагается следующая формулировка части 5 статьи 6 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40–ФЗ «О федеральной службе безопасности»: «Полученные в процессе деятельности органов федеральной службы безопасности сведения о частной жизни, затрагивающие честь и достоинство гражданина и способные причинить вред его законным интересам, не могут сообщаться органами федеральной службы безопасности кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и должны быть уничтожены сразу же по достижении поставленной цели».
Кроме того, мы предлагаем закрепить право на неприкосновенность частной жизни в качестве самостоятельного принципа уголовного процесса. Таким образом, мы предлагаем дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации статьей 13.1 «Право на неприкосновенность частной жизни» следующего содержания: «Ограничение права на неприкосновенность частной жизни допускается только на основании судебного решения».
По нашему мнению, закрепление принципа неприкосновенности частной жизни в качестве самостоятельного принципа уголовного процесса будет способствовать более четкому определению оснований и условий ограничения права на неприкосновенность частной жизни в уголовном судопроизводстве, а также круга процессуальных гарантий от произвольного нарушения права на неприкосновенность частной жизни.
Еще одним существенным пробелом в российском законодательстве является отсутствие перечня преступлений, при которых разрешено прослушивание телефона, а также перехват почтовых, телеграфных и иных сообщений. Из содержания статьи 8 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» можно сделать вывод о том, что подозрение в совершении любого преступления может послужить основанием прослушивания телефонных переговоров, а также перехвату почтовых, телеграфных и иных сообщений, при условии наличия информации о преступлении, добытой из других источников. Таким образом, предлагается дополнить Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» статьей с перечнем преступлений, допускающих прослушивание телефонных переговоров, а также перехват почтовых, телеграфных и иных сообщений. Такой перечень даст гражданам возможность понять, какие их действия могут привести к такой реакции государства, как прослушивание телефонных переговоров, а также перехват почтовых, телеграфных и иных сообщений. Таким образом, будет соблюдено требование «предсказуемости», то есть граждане смогут самостоятельно либо с помощью адвоката предвидеть последствия своих возможных действий.
Третьим требованием законности является «допустимость». Данное требование будет считаться соблюденным лишь в том случае, если у гражданина будет возможность убедиться, что прослушивание соответствует законодательным нормам. В связи с этим мы предлагаем дополнить статью 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» следующим положением: «После окончания прослушивания телефонных и иных переговоров лицо, чьи переговоры прослушивались, должно быть уведомлено о факте прослушивания за исключением случаев, влекущих угрозу цели расследования».
Рассмотрим вторую группу норм, допускающих вмешательство в частную жизнь. Это нормы, содержащие ограничения в связи с чрезвычайным положением.
Под чрезвычайным положением понимается «вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающих отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей» [9, ч. 1 ст. 1].
Конституция Российской Федерации предусматривает возможность установления отдельных ограничений прав и свобод в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя [5, ч. 1 ст. 56]. При этом в соответствии с частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени не подлежат ограничению. Однако допускается установление ограничений на право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища [5, ч. 3 ст. 56].
В последнее время некоторые авторы высказывают соображения о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации путем сокращения закрепленного в ней перечня прав и свобод, не подлежащих ограничению при введении чрезвычайного положения. В частности, предлагается изъятие из этого списка таких прав как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Однако мы склонны не согласиться с данной точкой зрения, поскольку находим ее нецелесообразной [6, с. 38]. Решение проблемы ограничения прав и свобод граждан в период действия чрезвычайного положения мы видим в совершенствовании федерального законодательства без внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Следующая группа норм, допускающих вмешательство в частную жизнь, – нормы, содержащие ограничения в связи с необходимостью выбора между правом на неприкосновенность частной жизни и другим, более важным правом.
В данном случае проблемным является вопрос о том, как определить критерий такого приоритета.
Следует отметить, что в международном праве до сих пор является нерешенной проблема о соотношении разных прав человека. Зачастую возникают ситуации, когда причиной вмешательства одного человека в частную жизнь другого является стремление первого осуществить свое собственное право. На практике чаще всего подобное столкновение права на неприкосновенность частной жизни происходит с правом на информацию и самовыражение. Практика Европейского суда по правам человека в решении подобных дел неоднозначна, как и практика отдельных государств. В связи с этим в настоящее время государства абсолютно свободны в принятии решений о приоритете того или иного права. По нашему мнению, основным критерием такого приоритета должен быть уровень значимости конкретного права для населения конкретного государства и соответствие его Конституции.
Ориентируясь на Конституцию Российской Федерации, предполагается, что российский законодатель определил приоритет следующих прав и свобод по отношению к праву на неприкосновенность частной жизни:
-
1) право на жизнь (статья 20 Конституции Российской Федерации);
-
2) право на достоинство личности (статья 21);
-
3) право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22).
Все остальные права и свободы условно будут считаться менее важными, чем право на неприкосновенность частной жизни.
Таким образом, по нашему мнению, в случае необходимости выбора между правом на неприкосновенность частной жизни и другим правом приоритет должен отдаваться праву на неприкосновенность частной жизни, кроме случаев, когда в противовес вступает право на жизнь, право на достоинство личности, право на свободу и личную неприкосновенность, которые конституционно признаны более важными правами.
И, наконец, рассмотрим четвертую группу правовых норм, допускающих вмешательство в частную жизнь, т. е. нормы, содержащие ограничения в связи с обеспечением безопасности государства, законности, основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.
В тех случаях, когда интересы гражданина вступают в противовес с интересами безопасности государства, органы исполнительной власти прежде всего должны гарантировать безопасность государства всеми законными способами, поскольку от безопасности государства зависит безопасность личности и общества в целом.
Конституция Российской Федерации закрепила запрет на ограничение права на неприкосновенность частной жизни в условиях особых административно-правовых режимов. Однако в случае, если конкретным гражданином будет создана угроза безопасности государства, будут действовать нормы, ограничивающие его конституционные права, в том числе и права на неприкосновенность частной жизни, которые применяются в обычных условиях к любым гражданам, обвиняемым или подозреваемым в преступлении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что баланс интересов государства и личности будет достигнут в случае ослабления внешних опасностей при разрешении внутренних противоречий в рамках закона. Именно в таком случае будут соблюдаться гарантии прав и свобод граждан, а государству будет обеспечена безопасность.
Список литературы Пределы допустимого вмешательства государства в сферу частной жизни
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года//Российская газета. -1995. -5 апреля.
- Доклад о соблюдении прав человека в РФ в 2000 году. -http://www.mhg.ru/publications/3675889 (дата обращения: 8 августа 2013 г.)
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.//Бюллетень международных договоров. -2001. -№ 3.
- Замечания Общего Порядка, принятые Комитетом по Правам Человека//Библиотека по Правам Человека Университета Миннесоты. -Замечание Общего Порядка 16.
- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года//Российская газета. -1993. -25 декабря.
- Майоров А. В., Поперина Е. Н. Формирование и развитие права на неприкосновенность частной жизни//Юридическая наука и правоохранительная практика. -2012. -№ 3 (21). -С. 34-38.
- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№ 12.
- О федеральной службе безопасности: федер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ//Российская газета. -1995. -12 апреля.
- О чрезвычайном положении: федер. конституц. закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ//Российская газета. -2001. -2 июня.
- Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ//Российская газета. -1995. -18 августа.
- По делу о проверке законности отдельных положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой: определ. Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. № 86-О//Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. -1998. -№ 6.
- По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова: постановл. Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П//Собрание законодательства РФ. -2003. -№ 44. -Ст.4358.
- Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран (в том числе Украины и России)//Харьковская правозащитная группа. -Харьков, 1999. -http//:www.kiev-security.org.ua/box/4/51_2.shtml#2 (дата обращения 1.07.2013).