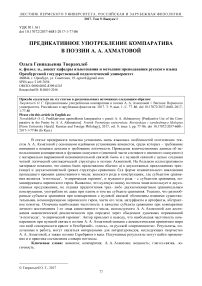Предикативное употребление компаратива в поэзии А. А. Ахматовой
Автор: Твердохлеб Ольга Геннадьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка установить связь языковых особенностей поэтических текстов А. А. Ахматовой с основными идейными установками акмеистов, среди которых - требование внимания к вещным деталям и требование логичности. Приведены количественные данные об использовании компаративов в функции сказуемого (именной части составного именного сказуемого) с материально выраженной незнаменательной связкой быть и с нулевой связкой с целью создания четкой логической синтаксической структуры в поэзии Ахматовой. На большом иллюстративном материале показано, что связка быть представлена обычно: а) в двусоставных предложениях трех-(чаще) и двухкомпонентной (реже) структуры сравнения; б) в форме изъявительного наклонения прошедшего времени единственного числа: женского рода в конструкциях, где субъектом сравнения является 'я-поэтесса', 'я-лирическая героиня', и мужского рода - с субъектом сравнения, номинирующим лирического героя. Выявлено, что нулевую связку поэтесса чаще использует в двусоставных предложениях, не отдавая предпочтения трех- либо двухкомпонентным сравнительным конструкциям, употребляя их даже при одном и том же субъекте сравнения. Указано, что разнообразные субъекты сравнения при компаративах с нулевой связкой обозначены именами существительными, номинирующими лирического героя, части его тела, натурфакты и артефакты, абстрактное понятие. Отмечена наибольшая частотность в качестве субъекта сравнения при компаративе личного местоимения 1-го лица единственного числа, используемого А. А. Ахматовой для достижения акмеистической реалистичности при передаче через обыденное душевных переживаний 'я-поэтессы', 'я-лирической героини'. Автор приходит к выводу, что наибольшая частотность ком-паративов при нулевой связке в поэзии А. А. Ахматовой связана с акмеистическим принятием мира «во всей совокупности красот и безобразий», «здесь», «в русской современности». Результаты, полученные в работе, могут оказаться интересными для литературоведов, исследующих творчество А. А. Ахматовой, а также поэзию Серебряного века. Полученные результаты могут найти применение и в практике составления словаря поэтессы.
Акмеизм, компаратив, а. а. ахматова, вещность, глагол-связка, логичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14729499
IDR: 14729499 | УДК: 811.161 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-1-77-86
Текст научной статьи Предикативное употребление компаратива в поэзии А. А. Ахматовой
Возросшее внимание лингвистов к проблемам художественной речи поэтов Серебряного века и особая значимость в современной науке междисциплинарных исследований на стыке литературоведения и лингвистики, когда лексика, семантика и стилистика художественного языка изучаются в единстве с поэтикой, делает наше исследование актуальным.
Изучение поэзии акмеизма, представителями которого были С. М. Городецкий, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, М. А. Кузмин, М. А. Зенкевич, со времени своего возникновения (см. сборник статей критиков-современников: [Акмеизм… 2014]) вызывает интерес как литературоведов (В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, М. Л. Гаспаров, Л. Г. Кихней, О. А. Клинга, Е. В. Меркель, О. А. Лекманов, Р. Д. Тименчик, О. В. Червинская и мн. др.), так и лингвистов (В. В. Виноградов, С. С. Аверинцев и др.).
Особое место в литературе Серебряного века, и в частности, акмеизма, занимает поэтический мир Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966).
Ее поэзия в большей степени исследовалась в литературоведческом и философском аспектах [Жирмунский 1928; Тименчик 1973; Артюхов-ская 1982; Кормилов 1998; Бурдинa 2009; Бурдинa 2010; Васильева 2008; Кихней, Меркель 2012; Яковлева 2014] .
Имеются работы, посвященные и ее поэтическому языку [Эйхенбаум 1969; Виноградов 1922; Виноградов 1976], и, в частности, вопросам его синтаксиса и лаконичности [Жирмунский 1928; Адмони 1992]. Есть исследования стилистики ее ранней лирики [Кашкарова 2010], концепта «любовь» [Данькова 2000], фразеологизмов [Кудрина 2008], одоративной лексики [Кулаковский 2011] и лексического повтора [Метлякова 2011].
Однако до сих пор остается много невыясненного.
-
I. В программных манифестах акмеистов были заявлены требования внимания к вещным деталям и логичности. Так, С. М. Городецкий в статье «Некоторые течения в современной русской поэзии» (1913) постулирует «бесповоротное приятие» акмеизмом мира «во всей совокупности красот и безобразий» [Городецкий 1997: 205], что потребовало смены «поэзии намеков и настроений» на логически ясное «искусство точно вымеренных и взвешенных слов» [Жирмунский 1916: 31], когда логика «есть царство неожиданности», а «мыслить логически значит непрерывно удивляться» [Мандельштам 1993].
Требование логичности потребовало вовлечения в акмеистический художественный текст определенных грамматических построений. Как мы указывали ранее, «логико-лингвистическими построениями, свойственными русскому синтак- сису, становятся у акмеистов разные сравнительные конструкции, особенно включающие грамматическую форму, способную самостоятельно выражать компаративную семантику – степень сравнения имен прилагательных, наречий, слов категории состояния» [Твердохлеб 2016а].
Поскольку сравнение, обычно включающее в себя три элемента [Ефимов 1961: 224], выражающихся эксплицитно или имплицитно: субъект сравнения (то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и основание ( признак ) сравнения (общее у сравниваемых предметов), отражает реальность вне действия, т. е. статически, то компаративные формы, предназначенные для выражения градационного сравнения (по соотношению измеряемого), для акмеистического обозначения «вещей» в состоянии статики оказываются весьма кстати. Именно компаративные конструкции позволяют автору в статически подробных сравнениях разных «вещей» между собой акцентировать внимание читателя не на каком-либо событии или действии, а на самих «вещах», их «деталях».
С таким «проникновением в поэзию чуждой эпохе символизма рациональной стихии» В. М. Жирмунский связывал появление «логического синтаксиса», «логических форм синтаксической связи как основы композиционного оформления» в акмеистических текстах Анны Ахматовой [Жирмунский 1928: 332–336].
-
II. Имена прилагательные, наречия и слова категории состояния в сравнительной степени, являющиеся грамматическими омонимами, принято называть компаративами. Объектом данной статьи стал язык поэзии А. А. Ахматовой, в том числе компаративные конструкции, способствующие выполнению задач, заявленных акмеистами в их программных статьях.
Путем выборки из поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 1 [Национальный…] нами было обнаружено более 2,5 тысяч конструкций с компаративами от прилагательных, наречий и слов категории состояния (безличных предикативов, предикативных наречий), с разной степенью частотности используемых поэтами-акмеистами (подробный анализ статистических данных см. в нашей предыдущей работе: [Твердохлеб 2016б]). При этом в подборке «компаративы» по подкорпусу «А. А. Ахматова» НКРЯ выдал:
– 216 документов из найденных 945 общим объемом 5 316 предложений;
– 346 вхождений – 0,85 % от 56 504 слов.
Компаративы как логические грамматические средства выражения неравной меры проявления признака, присущего сопоставляемым предметам, в предложении номинируют осно- вания сравнения. В предложении они выступают в функции сказуемого (именной части составного именного сказуемого), определения и обстоятельства.
Рассмотрим далее предикативное употребление компаратива в поэзии А. А. Ахматовой.
-
III. Проведенный нами анализ полученных в результате этой выборки конструкций выявил, что наиболее часто (более 100 примеров, т. е. почти 1/3 всех выявленных случаев) компарати-вы в предикативном употреблении функционируют с материально выраженной незнаменательной связкой быть и с нулевой связкой. Опишем это детально.
-
1. Модель «компаратив + быть»
Наиболее употребляемая в русском языке связка быть выражает «констатацию» наличия признака предмета в «чистом» виде [Лекант 1976: 96–97], поэтому компаративные конструкции указанной модели в акмеистической поэзии Ахматовой, с ее вниманием к «вещизму» и логичности, представлены очень широко (25 примеров, или почти 1/4 всех выявленных случаев компаративов в предикативном употреблении):
-
1) в двусоставных предложениях (большинство случаев):
▬ обычно трехкомпонентной структуры (субъект сравнения + основание сравнения + объект сравнения), ср.: Как была я ему запретней / Всех семи смертельных грехов (Поэма без героя). С лексемами всего, всех в позиции объекта обычно образуется сложная превосходная степень, выражающая «значение большой степени проявления признака» [Русская грамматика 1980: § 1307], напр.: И будет свиданье / Печальней стократ / Всего , что… (Путем всея земли); Белей всего на свете / Была ее рука («Горят твои ладони...»); …и я была как все, / И хуже всех была («Оставь, и я была как все...»);
▬ реже двухкомпонентной структуры (субъект сравнения + основание сравнения), где объект сравнения не выражен, а компаратив в таких имплицитно релятивных (абсолютивных) конструкциях опирается на абстрактную норму признака, ср.: Была еще обыкновенней встреча («Обыкновенным было это утро...»); Но тот был выше и стройней / И даже, может быть, моложе (Подражание корейскому);
-
2) в безличных (примеры единичны): Так сказала: «Он по ней, / С ним ей будет веселей » (Сказка о черном кольце).
Поэтесса использует материально выраженную связку быть :
-
а) обычно в форме изъявительного наклонения прошедшего времени (многочисленные примеры ниже);
-
б) в форме будущего времени (единичные примеры), ср.: И будет свиданье / Печальней стократ / Всего, что… (Путем всея земли), ср. также безличное предложение: С ним ей будет веселей » (Сказка о черном кольце);
-
в) в форме настоящего времени (единственный пример, включающий связку есть ): О, есть ли что на свете мне знакомей , / Чем шпилей блеск и отблеск этих вод! (Ленинград в марте).
Разная частотность перечисленных временных связочных форм объясняется несколькими факторами. Большая активность форм прошедшего времени при компаративе связана, видимо, с акмеистическим требованием внимания к деталям: поэтесса как бы оглядывается назад, логически анализируя через сравнение какую-либо реалистическую ситуацию в прошлом, ведь то, что уже произошло (имело место в прошлом), можно и охарактеризовать детальнее, и оценить. Такое сравнение для читателя более закономерно и более реалистично: он больше поверит описанию того, что уже было, а не тому, что будет (будущее событие в какой-то степени лишь предсказание, которое может и не произойти). Этим объясняется, на наш взгляд, ограниченное использование при сравнении-компаративе связки в будущем времени. Для выражения же настоящего времени в русском литературном языке обычно связка опускается (об использовании нулевой связки см. ниже); отсюда и единственное употребление стилистически окрашенной книжной связки настоящего времени есть .
А. А. Ахматова использует формы прошедшего времени:
-
а) женского рода единственного числа, в частности, в конструкции, где субъектом сравнения является:
-
• я-поэтесса, я-лирическая героиня (обычно), ср. многочисленные примеры с личным местоимением 1-го лица единственного числа я в именительном падеже: И старше была я века / Ровно на десять лет (Из цикла «Юность»); …и я была как все, / И хуже всех была («Оставь, и я была как все...»); Неужто я всех виноватей / На этой планете была ? (Подражание Кафке); Как была я ему запретней / Всех семи смертельных грехов (Поэма без героя); Удивляйтесь, что была печальней / Между молотом и наковальней, / Чем когда-то в юности была… («Удивляйтесь, что была печальней...»);
-
• другое понятие: часть тела, природное явление, абстрактное понятие (реже), ср. имена существительные в именительном падеже: Белей всего на свете / Была ее рука («Горят твои ладони...»); Заря была себя самой алее (Приморский сонет); Была еще обыкновенней встреча («Обыкновенным было это утро...»); И песня
любви нашей чистой была , / Прозрачнее лунного света («Над черною бездной с тобою я шла...»);
-
б) мужского рода единственного числа – с субъектом сравнения, номинирующим:
-
• лирического героя, ср. примеры с указательным и относительным местоимением в именительном падеже: Но тот был выше и стройней / И даже, может быть, моложе (Подражание корейскому); Тот, кто был других смелее , / Уговаривал меня (Сказка о черном кольце);
-
• другое понятие: часть тела, название пространства, абстрактное понятие (реже), ср. имена существительные в именительном падеже: Но конец отравленного жала / Был острей веретена («Я сошла с ума, о мальчик странный...»); И город , смертно обессилен, / Был Трои в этот час древней (В разбитом зеркале);
-
в) среднего рода единственного числа – с субъектом сравнения, называющим абстрактное понятие, ср. имя существительное и местоимение в именительном падеже: Все горше и страннее было сходство / Мое с моим изображеньем новым («Покинув рощи родины священной...»); …и это , верно, было / Всего страшней («Так вот он – тот осенний пейзаж...»);
-
г) множественного числа – с субъектом сравнения, называющим природное явление, ср. имя существительное в именительном падеже: Ведь звезды были крупнее («Любовь покоряет обманно...»).
Отмеченная выше многочисленность сравнительных конструкций, образованных по модели «компаратив + быть », с личным местоимением 1-го лица единственного числа я в именительном падеже, особенно свойственных творчеству А. А. Ахматовой, объяснима акмеистическим требованием реалистичности, в частности, при передаче через обыденное душевных переживаний ‘я-поэтессы’, ‘я-лирической героини’.
Субъекты сравнения расположены по отношению к компаративу:
-
► контактно: И будет свиданье / Печальней стократ / Всего, что… (Путем всея земли);
-
► дистантно (чаще): Я
была тебе весной и
песней, / А потом была еще тебе весной и песней...»);
чудесней («Я была
-
► в препозиции (чаще): Заря была себя самой алее (Приморский сонет);
-
► в постпозиции: « Белей всего на свете / Была ее рука » («Горят твои ладони...»); Белее сводов Смольного собора <…> Она была («Тот голос, с тишиной великой споря...»).
Наибольшая частотность описанных конструкций с расположением субъекта сравнения по отношению к основанию сравнения в препозиции, на наш взгляд, объясняется стремлением поэтессы синтаксически (при помощи прямого порядка слов) отобразить (подчеркнуть) время, идущее в одном направлении (из прошлого к настоящему, к моменту речи, в котором находится наблюдатель – автор стихотворения), при этом преобладание дистантного расположения способствует зрительному «вытягиванию» этой стрелы времени (читателю предлагается как бы подольше понаблюдать за сравнением, элементы которого синтаксически дистанционно развертываются в стихотворении).
В роли объекта сравнения в стихах Анны Ахматовой представлены:
-
○ чаще имя в форме родительного падежа ( песня была прозрачнее лунного света ) (о тематическом своеобразии объектов сравнения при компаративах в поэзии А. Ахматовой см. нашу работу: [Твердохлеб 2016в]);
-
2 . Модель «компаратив + нулевая связка»
○ единично сравнительный оборот или сравнительное предложение с союзом чем ( что знакомей, чем шпилей блеск и отблеск этих вод ; была печальней, чем когда-то в юности была ).
Нулевая связка при компаративе передает значение настоящего времени: И серп поднебесный желтее , чем липовый мед (Бежецк); На дне песок белее мела («Земля хотя и не родная...»); Значит, мягче воска гранит … (Поэма без героя). Указанная модель в поэзии А. А. Ахматовой представлена в нашей картотеке наиболее широко (более 80 случаев, или более 4/5 всех выявленных случаев компаративов в предикативном употреблении), что мы связываем с программным заявлением акмеизма оглянуться «ясным, зорким оком», «принять все, что увидел» «здесь», «в русской современности» и «пропеть жизни и миру аллилуйя» [Городецкий 1997: 205].
И, видимо, поэтому встречается всего один пример нулевой связки при компаративе в предложении с ирреальной (условной) модальностью, передаваемой при помощи частицы бы : Лучше бы поблескиванье дул / В грудь мою направленных винтовок («Страх, во тьме перебирая вещи...»).
-
1. Нулевую связку поэтесса чаще использует в двусоставных предложениях:
▬ трехкомпонентной структуры, ср.: Руки голы выше локтя (Рыбак); Взоры огненней огня («Взоры огненней огня...»); И холоднее льда уста мои («Они летят, они еще в дороге...»); И прекрасней мраков Рембрандта / Просто плесень в черном углу («И прекрасней мраков Рембрандта...»); Грудь белее нагорного снега («Я умею любить...»), в том числе и в эллиптиче-ски-неполном предложении, в котором объект сравнения однозначный, точный, легко восстанавливаемый из контекста типа: Чем хуже этот век предшествующих (веков. – О. Т.)? («Чем хуже этот век предшествующих? Разве...»). С лексемами всего, всех в позиции объекта находим реализацию сложной превосходной степени, напр.: Сильней всего на свете / Лучи спокойных глаз («Горят твои ладони...»); …всех выше <…> Голова Madame de Lamballe (Поэма без героя);
▬ двухкомпонентной структуры, напр.: Память о солнце в сердце слабеет. / Желтей трава («Память о солнце в сердце слабеет...»); Все сильней биенье крови / В теле, раненном тоской (Рыбак); Даже звонче голос нежный («Веет ветер лебединый...»); … голос глуше , / Белых рук движенья верней … («Не убил, не проклял, не предал...»). Абсолютивность таких конструкций, описывающих абстрактную норму (обычное положение дел) признака, особенно демонстрирует ряд предложений с лексемой каждый, являющейся «универсальной» «в утверждениях, касающихся всех объектов некоторого класса» [Падучева 2002: 134] и употребляемой со значением ‘один из ряда подобных, который взят подряд, без исключений, без пропусков, причем предметы, к которым оно применяется, вместе составляют единую совокупность’ [Синько 2008: 21], ср.: С каждым утром сильнее мороз («Хорошо здесь: и шелест и хруст...»); И каждая встреча чудесней («Под крышей промерзшей пустого жилья...»); Я тебе послушней с каждым днем («Ты всегда таинственный и новый...»); Осталось вас немного, / Мне оттого вы с каждым днем милей … («Не мудрено, что похоронным звоном...») и др.
Наш материал показывает, что поэтесса не отдает предпочтения трех- либо двухкомпонентным сравнительным конструкциям, употребляя даже при одном и том же субъекте сравнения обе указанные конструкции, ср. пары стихотворных предложений:
▬ с лексемой дом : Дом пестрей комедьянт-ской фуры (Поэма без героя); С каждым шагом все дальше дом (Строфы, не вошедшие в Поэму без героя);
▬ с лексемой встреча : И встречи горестней разлуки (Из Дневника путешествия); И каждая встреча чудесней («Под крышей промерзшей пустого жилья...»);
▬ с лексемой глаза : А глаза синей , чем лед (Рыбак); Темней и темней глаза (Тамаре Платоновне Карсавиной);
▬ с лексемой дорога : А дорога до погоста / Во сто раз длинней , / Чем тогда, когда я просто / Шла бродить по ней («За узором дымных стекол...»); Но мне всего милей / Лесная и пологая дорога («Бессмертник сух и розов. Облака...»).
Разнообразные субъекты сравнения представлены:
-
а ) именами существительными, номинирующими:
-
• лирического героя, части его тела: Твоя избранница покорней / Других (Последнее письмо); Эти глаза зеленее моря / И кипарисов наших темнее … (У самого моря);
-
• другое понятие: растительный мир, натур-факты и артефакты, абстрактное понятие: Память о солнце в сердце слабеет. / Желтей трава («Память о солнце в сердце слабеет...»); На дне песок белее мела («Земля хотя и не родная...»); И серп поднебесный желтее , чем липовый мед (Бежецк); Дом пестрей комедьянтской фуры (Поэма без героя); И дыханье их понятней слова (Ташкент зацветает); И слаще хвалы серафима / Мне губ твоих милая лесть … («Ты мог бы мне сниться и реже...»); Всего прочнее на земле печаль / И долговечней – царственное Слово («Кого когда-то называли люди...»);
-
б ) местоимениями (многочисленные примеры), указывающими:
-
• на я-поэтессу, я-лирическую героиню (достаточно часто), ср. примеры с личным местоимением 1-го лица единственного числа я : А я белей , чем снег (Песенка); Я всех на земле виноватей , / Кто был и кто будет, кто есть («Кому и когда говорила...»); Разве я других виноватей ? (Поэма без героя); Я тебе послушней с каждым днем («Ты всегда таинственный и новый...»); Врачуй мне душу, а не то / Я хуже чем умру («Врачуй мне душу, а не то...»);
-
• лирического героя (также достаточно часто), ср. примеры с личным местоимением 2-го лица единственного числа ты : А ты теперь тяжелый и унылый, / Отрекшийся от славы и мечты, / Но для меня непоправимо милый, / И чем темней , тем трогательней ты («А ты теперь тяжелый и унылый...»); Отчего же, отчего же ты / Лучше , чем избранник мой? («Сердце к сердцу не приковано...»); А ты , конечно, всех проворней … (Последнее письмо); Несносен ты и своенравен, / Но почему-то всех милей (Последнее письмо); и множественного числа (единичный случай): Осталось вас немного, / Мне оттого вы с каждым днем милей … («Не мудрено, что похоронным звоном...»); либо с относительным местоимением кто : И доблесть народа, и доблесть того, Кто нам и родней , и дороже всего («Нам есть чем гордиться и есть что беречь...»);
-
• другое понятие (местоимениями он, они, то, кто, что ): часть тела, животное (птица), природное явление, абстрактное понятие (реже): Только глаза подымать не смей <…> Первых фиалок они светлей (9 декабря 1913); Я голубку ей дать хотела, / Ту, что всех в голубятне белей («Муза ушла по дороге...»); Он и праведный, и
- лукавый, / И всех месяцев он страшней (Август); Они тебя сожгли… / О, встреча, что разлуки тяжелее! (Городу Пушкина); Прощали мне (и то всего милее)… («О, как меня любили ваши деды...»);
в) субстантивированным наречием: Ты свободен, я свободна, / Завтра лучше , чем вчера, – / Над Невою темноводной, / Под улыбкою холодной / Императора Петра («Сердце бьется ровно, мерно...»).
Отметим, что достаточно частое обозначение субъекта сравнения личным местоимением 1-го лица единственного числа я в именительном падеже, в сравнительных конструкциях, образованных по модели «компаратив + нулевая связка», так же как и в сравнительных конструкциях, образованных по модели «компара-тив + быть » (об этом см. выше), обусловлено акмеистическим требованием реалистичности при передаче через обыденное душевных переживаний ‘я-поэтессы’, ‘я-лирической героини’.
Субъекты сравнения расположены по отношению к компаративу:
► контактно: Еловой рощи свежий шум / Покойнее рассветных дум (Песенка); Белых рук движенья верней … («Не убил, не проклял, не предал...»); Ты сладострастней , ты телесней (Поэма без героя);
► дистантно: Удары сердца чаще (Исповедь); Пускай я не сон, не отрада / И меньше всего благодать (Первое предупреждение);
-
► в препозиции: … голос глуше («Не убил, не проклял, не предал...»); Разве я других виноватей ? (Поэма без героя);
-
2. В немногочисленных безличных предложениях, используемых поэтессой, описываемая компаративная модель выражает большее проявление известного состояния ( ясней, страшней ) в разное время ( с каждой минутой, с каждым мигом ) у лирических героев ( людей ), для указания на которых использованы формы местоимений в дательном падеже: И в старой Ев-
- ропе все больше людей, / Которым с каждой минутой ясней, Откуда приходит свет («Напрасно кровавою пеленой...»); Что делаем – не знаем сами, / Но с каждым мигом нам страшней (В зазеркалье).
► в постпозиции: … презреннее всех на земле / Нарушитель клятвы не данной («Быть может, презреннее всех на земле...»); И чем темней , тем трогательней ты («А ты теперь тяжелый и унылый...»).
В роли объекта сравнения в стихах Анны Ахматовой представлены:
○ имя в форме родительного падежа ( пестрей фуры , понятней слова , покойнее дум , слаще хвалы );
○ сравнительный оборот или сравнительное предложение с союзом чем ( белей, чем снег ; желтее, чем липовый мед ; лучше, чем вчера ; длинней, чем тогда, когда я просто шла бродить по ней ).
Особенно яркими, неожиданными, индивидуальными являются сравнения с локативным детерминантом в позиции субъекта сравнения, ср. местоименные наречия там, где в компаративной модели, указывающей на большее проявление признака цвета ( светлей ) при разных обстоятельствах (места): Там средь стволов еще светлее (Приморский сонет); Я места ищу для могилы. / Не знаешь ли, где светлей ? (Похороны).
Таким образом, языковые особенности ком-паративов в предикативном употреблении в поэтических текстах А. А. Ахматовой связаны с основными идейными установками акмеистов, среди которых – требование внимания к вещным деталям и требование логичности. С целью создания четкой, логической синтаксической структуры А. А. Ахматова использует сравнительные конструкции с компаративами в функции сказуемого (именной части составного именного сказуемого) с материально выраженной незнаменательной связкой быть и с нулевой связкой, позволяющие поэтессе сравнивать разные «вещи» между собой, статически подробно, вне действия рассматривать их «детали», свойства, особенности.
Связка быть при компаративах представлена обычно: а) в двусоставных предложениях трех-(чаще) и двухкомпонентной (реже) структуры; б) в форме изъявительного наклонения прошедшего времени единственного числа: женского рода в конструкциях, где субъектом сравнения является ‘я-поэтесса’, ‘я-лирическая героиня’ (обычно), и мужского рода — с субъектом сравнения, номинирующим лирического героя.
Нулевая связка при компаративе в поэзии А. А. Ахматовой представлена: а) наиболее широко, что связано с акмеистическим принятием мира «во всей совокупности красот и безобразий», «здесь», «в русской современности»; б) чаще в двусоставных предложениях (без явного предпочтения трех- либо двухкомпонентных сравнительных конструкций); в) при разнообразных субъектах сравнения, репрезентированных именами существительными, номинирующими лирического героя, части его тела, натурфакты и артефакты, абстрактное понятие; г) особенно часто с субъектом сравнения, обозначенным личным местоимением 1-го лица единственного числа, – для достижения акмеистической реалистичности при передаче через обыденное душевных переживаний ‘я-поэтессы’, ‘я-лирической героини’.
Список литературы Предикативное употребление компаратива в поэзии А. А. Ахматовой
- Акмеизм в критике. 1913-1917/сост. О. А. Лекманова и А. А. Чабана; вступ. ст., примеч. О. А. Лекманова. СПб.: Изд-во Тимофея Маркова, 2014. 544 с
- Адмони В. Г. Лаконичность лирики Ахматовой//«Царственное слово». Ахматовские чтения. М.: Наследие, 1992. Вып. 1. С. 29-40
- Артюховская Н. И. Акмеизм и раннее творчество А. Ахматовой (поэт и течение): дис.. канд. филол. наук. М., 1981. 198 с
- Бурдина С. В. Архитектурный пейзаж Петербурга в зеркалах «Поэмы без героя» А. Ахматовой//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 36-140
- Бурдина С. В. Парадоксы хронотопа в «Реквиеме» А. Ахматовой//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 6. С. 60-66
- Васильева А. С. Категории пространства и времени в поэзии А. А. Ахматовой (на примере анализа одного стихотворения)//Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Вып. 31(69). Аспирантские тетради: науч. журн. СПб., 2008. С. 46-48
- Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)//Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М.: Наука, 1976. С. 367-459
- Виноградов В. В. О символике А. Ахматовой//Литературная мысль. Альманах I. Пг.: Колос, 1922. С. 92-237
- Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии//Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мемуары/вступ. ст., сост. и примеч. Т. А. Бек. М.: Московский рабочий, 1997. С. 202-207
- Данькова Т. Н. Концепт «любовь» и его словесное воплощение в индивидуальном стиле А. Ахматовой: дис..канд. филол. наук. Воронеж, 2000. 214 с
- Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М.: МГУ, 1961. 508 с
- Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм//Русская мысль. М., 1916. № 12. С. 25-56. URL: http://postsymbolism.ru/joomla/index.php?option= com_content&task=view&id=20&Itemid=39 (дата обращения: 05.06.2016)
- Жирмунский В. М. К вопросу о синтаксисе А. Ахматовой//Жирмунский В. М. Вопросы теории литературы. Статьи 1916-1926. Л.: Academia, 1928. C. 332-336. URL: http://matova.niv. ru/matova/kritika/zhirmunskij-k-voprosu-o-sintak-sise-matovoj.htm (дата обращения: 05.06.2016)
- Кашкарова О. Н. Из стилистического арсенала ранней лирики А. Ахматовой//Вестник ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. 2010. № 2. С.49-54
- Кихней Л. Г., Меркель Е. В. Семантика «границы» в картине мира Анны Ахматовой//Вестник ТвГУ. Сер. Филология. 2012. № 3. С. 55-62
- Кормилов С. И. Поэтическое творчество Анны Ахматовой. М.: МГУ, 1998. 128 с
- Кудрина Н. В. Предметные фразеологизмы в поэзии Анны Ахматовой: дис..канд. филол. наук. Курган, 2008. 236 с
- Кулаковский М. Н. Одоративная лексика в лирике Анны Ахматовой//Ярослав. пед. вестник. 2011. Т. 1, № 2. С. 209-213
- Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М.: Высш. шк., 1976. 143 с
- Мандельштам О. Э. Утро акмеизма//Собрание сочинений: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_1/03 prose/1_250.htm (дата обращения: 05.06.2016)
- Метлякова Е. В. Лексический повтор как семантико-стилистическая категория организации лирического текста в раннем творчестве Анны Ахматовой: дис..канд. филол. наук. Ижевск, 2011. 230 с
- Национальный корпус русского языка. URL: http://search.ruscorpora.ru/(дата обращения: 25.11.2015)
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М.: Эдиториал УРСС, 2002. 232 с
- Русская грамматика/под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980. Т. 1-2. URL: http://rusgram. narod.ru (дата обращения: 11.07.2016)
- Синько Л. А. Функционирование местоимений: коммуникативно-дискурсивный подход//Вестник МГОУ. Сер. Русская филология. 2008. № 2. С. 21-27
- Твердохлеб О. Г. Объекты сравнения в поэзии Н. С. Гумилева//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016а. № 3(35). С. 59-66
- Твердохлеб О. Г. Простые формы сравнительной степени прилагательных, наречий и слов категории состояния в поэзии акмеистов (статистические данные)//Научная интеграция: сборник научных трудов. 2016. М.: Перо, 2016. С. 1170-1172.
- Твердохлеб О. Г. «Вещность» и объекты сравнения, выраженные формой родительного падежа имени, в поэтическом языке акмеистов: А. А. Ахматова//Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2016. № 2 (21). С. 43-53
- Тименчик Р. Д. К семиотической интерпретации «Поэмы без героя»//Труды по знаковым системам. Т. VI. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1973. Вып. 308. С. 438-442
- Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа//Эйхенбаум Б. О поэзии. Л.: Сов. писатель, 1969. С. 75-147
- Яковлева Л. А. Апокалипсическая семантика в поэзии Анны Ахматовой: дис.... канд. филол. наук. Нерюнгри, 2014. 208 с