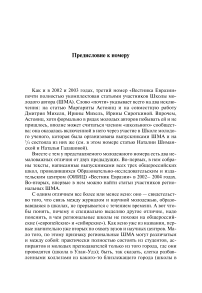Предисловие к номеру
Бесплатный доступ
ID: 14911891 Короткий адрес: https://sciup.org/14911891
Текст ред. заметки Предисловие к номеру
Как и в 2002 и 2003 годах, третий номер «Вестника Евразии» почти полностью укомплектован статьями участников Школы молодого автора (ШМА). Слово «почти» указывает всего на два исключения: на статью Маргариты Астоянц и на совместную работу Дмитрия Михеля, Ирины Михель, Ирины Сироткиной. Впрочем, Астоянц, хотя формально в рядах молодых авторов побывать ей и не пришлось, вполне может считаться членом «школьного» сообщества: она оказалась включенной в него через участие в Школе молодого ученого, которая была организована выпускниками ШМА и на 3/ 4 состояла из них же (см. в этом номере статью Наталии Шиманской и Натальи Галашовой).
Вместе с тем у представляемого молодежного номера есть два немаловажных отличия от двух предыдущих. Во-первых, в нем собраны тексты, написанные выпускниками всех трех общероссийских школ, проводившихся Образовательно-исследовательским и издательским центром (ОИИЦ) «Вестник Евразии» в 2002– 2004 годах. Во-вторых, впервые в нем можно найти статьи участников региональных ШМА.
С одним отличием все более или менее ясно: оно — свидетельство того, что связь между журналом и научной молодежью, образовавшаяся в школах, не прерывается с течением времени. А вот чтобы понять, почему я специально выделяю другое отличие, надо пояснить, в чем региональные школы не похожи на общероссийские («европейские» и «сибирские»). Как ясно уже из названия, первые значительно уже вторых по охвату вузов и научных центров. Мало того, по этому признаку региональные ШМА могут различаться и между собой: практически полностью состоять из студентов, аспирантов и молодых преподавателей только из того города, где они проводятся (школа в Улан-Удэ); быть, так сказать, слегка разбавленными коллегами из какого-то близлежащего города (школы в
Горно-Алтайске и Ульяновске); охватывать целый экономический район (в Томске — всю Западную Сибирь, в Архангельске — весь Север европейской России). Но даже при последнем варианте в региональных школах эффект разнообразия встреч и впечатлений от общения, конечно, слабее, чем на общероссийских. Прибавьте к этому еще два обстоятельства: что из-за ограниченного финансирования не всегда возможно вывезти участников региональных школ за пределы города и таким образом освободить их от текущих дел и забот и что по той же причине региональные школы проводятся в сокращенном формате, — и преимущества, которыми заранее наделяются участники школ общероссийских, станут еще более очевидными. Тем приятнее было включать в этот номер статьи «ре-гиональщиков» Дениса Беляева и Александра Кобзева, ничем не уступающие по уровню исполнения статьям более «привилегированных» участников общероссийских ШМА.
Читатели «Вестника Евразии», надеюсь, заметили, что все его последние номера организованы по тематическому принципу. Молодежный номер по определению не может быть таким, ведь по своим специальностям и исследовательским темам его авторы фактически образуют случайную выборку. Но вот что интересно: если внимательно вглядеться в сюжеты, рассматриваемые авторами статей этого номера, то станет очевидной их связь — где более выраженная, где менее — с организующими темами предыдущих номеров.
В самом деле, ядром номера первого за 2003 год были взаимоотношения власти и общества — и в эту тематическую рамку прекрасно укладываются статьи «Медицина против эпидемий в Поволжье: социально-исторический контекст (1890–1925)» Дмитрия Михеля, Ирины Михель, Ирины Сироткиной и «Татары-мусульмане Среднего Поволжья: этническая идентичность и слухи о насильственном крещении» Александра Кобзева. Причем вторая из них вполне была бы на своем месте, попади она и в номер первый за 2004 год, озаглавленный «Этничность и идентичность: воспроизводство — пересечение — понимание». Статьи Ирины Абдуловой «Виртуальная Монголия: Интернет-образ пространства в иркутском и бурятском сегментах Сети» и Ивана Митина «На пути к мифогео-графии России: «игры с пространством»» идеально вписываются в номер четвертый за 2003 год, в названии которого, напомню, стоит: «Пространство в идеях, образах, жизни». И целых четыре статьи — Маргариты Астоянц (о личностных особенностях детей, лишенных нормальной семьи, выбитых из нормального детства), Дениса Беляева (о примере освоения Российским государством «трудного» пространства, заметно отличающемся от привычных образцов), Александры Гуриновой (и сами-то краснодарские хиппи выпадают из «основного сообщества», и знаковые элементы их костюма в чем-то отличаются от столичных «хипповых стандартов») и Сергея Любичанковского (колоссальное расхождение между нормативным и реальным поведением губернских чиновников-управленцев) — фактически продолжают, каждая по-своему, в своем особенном развороте, тему номера второго за 2004 год «Нормы и отклонения». И потому, кстати, могут рассматриваться как тематическое ядро настоящего номера.
Здесь возникает интересный вопрос: почему так получилось? Журнал не заказывал специально темы статей никому из авторов этого номера, равно как и большинству авторов прошлых номеров, с которыми нынешний оказался в тематической перекличке. Просто в обычном «самотеке» текстов, поступающих в редакцию, уже не первый раз прорисовывается некая тематическая доминанта. В случае с молодежным номером еще можно льстить себя робкой надеждой, что такое внимание молодых авторов к определенным... нет, не к узким темам, конечно, а к одним и тем же широким тематическим «полям» — следствие знакомства с «Вестником Евразии», то есть результат редакционной политики. Но это объяснение, надо признать, достаточно спорное, совершенно уже не годится, если вспомнить историю появления собственно тематических номеров. Ибо сама идея их формирования каждый раз рождалась после того, как в редакционный портфель внезапно «падали» три-четыре перекликающихся друг с другом материала, что и подталкивало уже к целенаправленному заказу близких им по тематике статей.
В общем, следует честно признать, что четкого ответа на поставленный вопрос у меня нет. Остается только высказать достаточно тривиальное (и, о ужас, типично позитивистское!) предположение, что концентрация исследовательского интереса на перечисленных выше темах вызвана так называемым социальным запросом. Что увлечение нормами и отклонениями от них — результат утраты российским обществом старой нормативной сетки, его стягивавшей и ориентировавшей, поиска взамен ее новых норм, лучше отвечающих изменившимся условиям жизни. Что тема взаимоотношений власти и подданных, управляющих и управляемых подспудно актуализирована процессом строительства в России пресловутой властной вертикали. И что акцент на пространстве, на его образном представлении, его мифологии обусловлен стремлением научного сознания вернуться на «землю людей» — стремлением, в первую очередь отличающим молодых, которым, в отличие от старшего поколения, видимо, просто неинтересно «ширять крылами» в стороне от жизни, в горних высях схоластического теоретизирования на тему особой (евразийской, русской, православной, космической и т. д., и т. п.) сущности России...
Три — особое, священное, число, оно прямо-таки подталкивает к тому, чтобы завершить предисловие к третьему молодежному номеру другими числами, призванными произвести впечатление на читателя. Но почему бы их и не привести, эти числа, не потешить слегка коллективное самолюбие редакционного совета «Вестника Евразии»? Итак, взятые вместе, три молодежных номера нашего журнала — это 27 статей и не менее 36 п. л. текста; это 26 авторов, не успевших разменять четвертый десяток; это — что, может быть, самое ценное — статьи, поступившие из 20 городов России (от Мурманска до Владивостока); это тексты, в своем сюжетном многообразии едва уложившиеся в 13 журнальных рубрик.
Сергей Панарин
Сергей Алексеевич Панарин, главный редактор журнала «Вестник Евразии», заведующий отделом стран СНГ Института востоковедения Российской академии наук, Москва.