Предмет психологии: принцип целостности и анализ «по единицам»
Автор: Мазилов Владимир Александрович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Показано, что теоретические исследования по предмету психологии тормозятся из-за существования некоторых традиций в методологии психологии. Утверждается, что одним из препятствий в конструктивном решении проблемы предмета психологической науки является представление о том, что «клеточку» изучать легче, чем целое. В соответствии с такой традицией внимание исследователей направлено на поиск «единиц» психики. В статье подробно проанализировано происхождение методологического подхода, связанного с выделением «единиц». Утверждается, что подобная стратегия неприменима к трактовке предмета психологии как науки. Представлен принципиально иной подход: в качестве предмета психологии предлагается использовать максимально широкое понятие «внутренний мир человека».
Психология, предмет науки, предмет исследования, анализ по единицам, «клеточка», целостность, внутренний мир человека, способности
Короткий адрес: https://sciup.org/148321342
IDR: 148321342 | УДК: 159.9.01 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.02.P.48
Текст научной статьи Предмет психологии: принцип целостности и анализ «по единицам»
вопросов в данном тексте под сомнение не ставится (хотя автор полагает, что при принципиальной нерешенности проблемы предмета научной психологии продуктивность решения того или иного конкретного вопроса заметно снижается, но это мы в рамках настоящей статьи обсуждать не будем).
В свое время была сформулирована трактовка предмета психологии, согласно которой он характеризуется в его целостности и не допускает редукции до «единицы», замещающей предмет [7, 8, 14]. Это положение необходимо прояснить особо. Обратимся к истории вопроса.
Как можно полагать, в нашей отечественной психологии первым этот подход начал использовать Л.С. Выготский. В свое время он стремился создать марксистскую психологию, поэтому обратился к трудам Карла Маркса. Взяв за основу логику «Капитала», позаимствовав у К. Маркса идею «клеточки», он перенес на проблематику психологии этот подход, результатом чего явилась известная концепция «анализа по единицам» в противоположность анализу по элементам. В 1927 году Л.С. Выготский пишет трактат «Исторический смысл психологического кризиса». В нем, как известно, он ставит один из своих диагнозов кризиса в психологии: «Существуют две психологии – естественнонаучная, материалистическая, и спиритуалистическая: этот тезис вернее выражает смысл кризиса...» [2, с. 381]. Выход из кризиса может быть найден путем построения методологии психологии («диалектики психологии»). Психологии нужен свой «Капитал». «Кризис поставил на очередь разделе- ние двух психологий через создание методологии», «...психология не двинется дальше, пока не создаст методологии, что первым шагом вперед будет методология, это несомненно» [2, с. 422–423].
Итак, выход из кризиса Л.С. Выготский видел в создании методологии общей психологии. В качестве средства предлагался аналитический метод, ибо весь «“Капитал” написан этим методом», а аналитический метод предполагает выделение «клеточки» и исходит из того, что «развитое тело легче изучить, чем клеточку» [1, с. 407] (заметим, что Л.С. Выготский находился в постоянном поиске, поэтому за свою короткую творческую жизнь сформулировал несколько различных диагнозов методологического кризиса. Об этом см. [7]).
В книге «Мышление и речь» (1934) Л.С. Выготский писал: «Под единицей мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и которые являются далее неразложимыми живыми частями этого единства… Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. Она должна заменить методы разложения на элементы методом анализа, расчленяющего на единицы. Она должна найти эти неразложимые, сохраняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в ко-

Лев Семенович Выготский (1896–1934)

Владимир Петрович Зинченко
(1931–2014)
торых в противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться решить встающие перед ним вопросы» [2, с. 9]. Как отмечал выдающийся отечественный методолог психологии В.П. Зинченко, проблема «конструирования единиц анализа, адекватных той или иной предметной области исследования или данному конкретному предмету той или иной науки, решается как на уровне философской методологии, так и на уровне методологии конкретно-научной» [3, с. 81].
Развивая эту идею, В.П. Зинченко опирается на философское исследование Э.Г. Юдина, который приводит в качестве примеров единиц анализа «товар» в экономической системе К. Маркса, «биологический вид» в теории Ч. Дарвина, «биоценоз» в экологии [15]. По Э.Г. Юдину, эти примеры позволяют указать на следующее важное обстоятельство: «Единицы анализа не могут непосредственно заимствоваться в самой реальности в качестве вещественных продуктов мысленного конструирования (разумеется, отнюдь не произвольного по отношению к реальности). Единица анализа, должна быть конструктивной и операцио- нальной, т.е. такой, чтобы с ней можно было работать – накладывать на эмпирический материал и получать гомогенное описание объекта, позволяющее двигаться и в формальной плоскости (в плоскости оперирования знанием). Единица анализа должна обеспечивать привязку как к эмпирии, так и к наличным средствам анализа» [15, с. 307–308].
Согласно Э.Г. Юдину, «построить предмет изучения означает, во-первых, определенным образом задать, т.е. выделить и ограничить на основе некоего объяснительного принципа реальность; во-вторых, структурировать эту реальность, т.е. задать ее элементы и связи, повторяющиеся, типологически однородные отношения и узлы отношений; в-третьих, привязать предмет исследования к какому-либо принципу объяснения; в-четвертых, построить единицу анализа, такое минимальное образование, “клеточку”, в котором непосредственно представлены существенные связи и параметры объекта (существенные для данной задачи). Само собой разумеется, каждая из этих характеристик является сложным образованием» [15, с. 307]. «История изучения деятельности как особого предмета показывает, что и здесь построение подобных конструкций играет важную, нередко решающую роль. Например, в языкознании после выделения в качестве особого предмета речевой деятельности предпринимались попытки построить специфическую единицу этой деятельности, которая включала бы в себя достаточно полную характеристику акта коммуникации как лингвистического явления. Аналогичным образом в социологии было введено понятие социального действия, которое выступило в роли единицы анализа при изучении довольно широкого круга социологических явлений. Понятно, что такая же проблема возникает и перед психологией, хотя здесь ситуация более запутанна» [15, с. 307–308].
Как комментирует рассуждения Юдина В.П. Зинченко, «единица анализа – это такое минимальное образование, в котором непосредственно представлены существенные связи и существенные для данной задачи параметры объекта». Э.Г. Юдин пишет: «Марксово понятие “клеточки”: это, очевидно, не “атом” науки прошлого и вместе с тем не трансцендентное “целое” в его непостижимой сущности, а реальный структурный компонент экономической системы, открытие которого позволяет реализовать новый тип теоретического движения по предмету исследования. Внутри товара, как клеточки капиталистического способа производства, заключены существенные характеристики определенных форм взаимодействия человека с природой и связанных с ними форм общения самих людей. В марксовом исследовании результат достигается за счет все более многостороннего воссоздания структуры объекта на основе метода восхождения от абстрактного к конкретному. При этом методологическая роль “клеточки” определяется тем, что здесь во взаимопереплетении выражены несколько типов существенно разных связей, специфических для структуры социально-экономического организма. Иными словами, “клеточка” содержит не только субстанциональные, но и структурные характеристики изучаемого объекта, именно поэтому к ней неприложимы как таковые определения части или целого» [15, с. 23–24].
В.П. Зинченко подчеркивает: «Юдин большое внимание уделяет таким требованиям к единицам анализа, как их структурность, логическая однородность, операцио-нальность. Последнее означает, что с компонентами исследовательской единицы можно работать, они допускают измерение и количественную обработку. Этого можно достичь при условии, что система в единице будет представлена в ло- гически однородном виде. И хотя по своему содержанию компоненты единицы могут быть достаточно разнородны, но они должны быть выражены на едином языке» [3, с. 82].
Остановимся более подробно на работе В.П. Зинченко, которая является наиболее последовательной реализацией описываемого подхода в методологии психологии. В.П. Зинченко отмечает, что история поиска единиц анализа психики заслуживает специального теоретико-методологического исследования. Проблема выделения единиц возникала в каждом направлении психологической науки, претендовавшем на создание непротиворечивой теории психических явлений, теории, способной ассимилировать накопленный многообразный эмпирический и экспериментальный материал. Нельзя не согласиться с выводом В.П. Зинченко, что «путь от единицы анализа к теоретической конструкции в целом далеко не прост и не всегда заканчивается успехом» [3, с. 83]. «Тем не менее, – подчеркивает В.П. Зинченко, – осознанное выделение единицы анализа – признак методологической зрелости того или иного направления в науке и начало систематического построения теории. Соответственно, и для оценки той или иной концептуальной системы, описывающей психические явления, полезно представить себе ее исходные посылки, выражающиеся в данных единицах анализа. Противоречия и расхождения между различными концептуальными системами наиболее ярко и выпукло обнаруживаются именно между единицами анализа, положенными в основу той или иной теории» [3, с. 83].
Заслуживает внимания скрупулезность проведенного историкометодологического исследования. В.П. Зинченко подробно описывает историю развития изучаемого понятия: «В истории психологии в качестве единиц анализа психики выступали ощущения, представления, идеи (ассоцианизм); структурные отношения между фигурой и фоном (гештальтпсихология); реакция или рефлекс (соответственно, реактология и рефлексология); поведенческий акт (бихевиоризм). В необихевиоризме, в частности, проблема единиц анализа рассматривалась в качестве центральной Э. Толменом, работы которого оказали большое влияние на современную когнитивную психологию. Он дополнил схему “стимул – реакция” системой промежуточных переменных, организованных в квазипространственные когнитивные карты. В западноевропейской психологии проблему единиц анализа особенно обстоятельно обсуждал Ж. Пиаже, который в качестве таковой выделил обратимые операции, рассматриваемые в контексте более широких операторных структур, высшей из которых является интеллект» [3, с. 84].
В.П. Зинченко отмечает, что по сравнению с операциями и обратимыми операторными структурами частным случаем выступает использование в качестве единиц анализа мнемических и моторных схем, характерное для Ф. Бартлетта и ряда его последователей в современной англо-американской литературе. Также приводятся попытки использования в качестве единиц анализа психики и определенных состояний субъекта, таких как установки (Д.Н. Узнадзе) или значащие переживания (Ф.Н. Бассин).
В.П. Зинченко указывает: «Мы привели примеры относительно чистых, так сказать, стерильных, типологических единиц психологического анализа, репрезентирующих либо когнитивную, либо эмоционально-оценочную или либо, наконец, волевую, поведенческо-исполнительную сферу (см. познание, чувство, воля). В истории психологии имеются также примеры вариантов единиц анализа, которые характеризовались
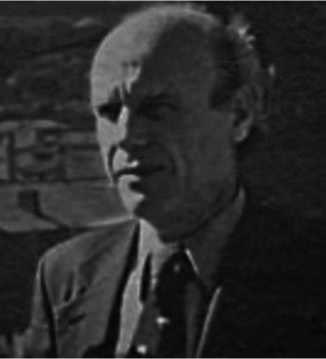
Эрик Григорьевич Юдин (1930–1976)
как целостные недифференцированные образования. Последние (если их рассматривать в онтологическом плане) лишь на высших ступенях развития начинают дифференцироваться на отдельные, более или менее самостоятельные и определенно очерченные роды, виды и классы психологических образований» [3, с. 84–85]. Представители лейпцигской школы психологии Ф. Крюгер и Г. Фоль-кельт ввели понятие «эмоционально-подобных ощущений» и говорили о слитности ощущений и чувств на ранних ступенях развития. Аналогичная мысль содержится и в гештальтпсихологии. Например, К. Коффка писал, что на ранних ступенях развития ребенка предмет для сознания является в такой же мере страшным, как и черным, и что первые эмоционально подобные восприятия должны считаться исходным пунктом всего последующего развития личности. В.П. Зинченко делает вывод, что в дискуссиях по поводу единиц анализа психики формулировались как требования к самим единицам, так и требования к построению теории в целом. Он отмечает, сейчас едва ли можно сомневаться в том, что из отдельных ощущений нельзя построить образ предмета. Точно так же после критики Пиаже в адрес геш-тальтпсихологии ясно, что из перцептивных структур невозможно вывести операторные структуры или структуры понятий.
Тем не менее обширный литературный анализ приводит В.П. Зинченко к грустному выводу: «Однако современная психология, характеризующаяся небывалым накоплением все новых и новых фактов, проявляет недостаточный интерес, а порой и удивительную беззаботность к выделению и определению единиц анализа психики. Это особенно хорошо видно на примере современной когнитивной психологии, оперирующей понятиями функционального блока и операции по переработке информации. Каждый блок отличается по ряду параметров, важнейшими из которых являются место в более широкой структуре блоков, информационная емкость, время хранения, тип преобразования информации и так далее. При реконструкции конкретных единиц анализа, на которые когнитивная психология разделяет тот или иной психический процесс, обнаруживается, что они представляют собой достаточно разнородные образования – от сенсорных регистров до семантической памяти. Описание того или иного психического процесса осуществляется с помощью объединения этих разнородных функциональных блоков в цепочки или реже – иерархические структуры. Но, хотя количественные и качественные характеристики отдельных блоков и операций, изучавшихся в специально создаваемых условиях, как правило, не вызывают серьезных сомнений, при попытках реконструкции на их основе более широких когнитивных структур исследователи сталкиваются с серьезными проблемами» [3, с. 85–86].
В.П. Зинченко приходит к знаменательному выводу: «Падение интереса к единицам анализа психики, видимо, связано со слишком сильными разочарованиями по поводу таких не оправдавших надежд единиц, как ощущение, реакция, рефлекс и т.д. Возможно, что причиной ослабления интереса к единицам анализа является и недостаточная методологическая культура психо- логии в этой области. Действительно, в психологической литературе нам не удалось найти строгого определения единицы анализа психики. Она характеризуется как универсальная (элементарная или структурная) составляющая психики; либо как ее детерминанта (в этом случае, правда, она выступает не столько в роли единицы анализа, сколько в роли объяснительного принципа); либо, наконец, как генетически исходное основание развития всей психики. Соотношение между этими тремя моментами в характеристике единиц анализа в разных направлениях психологии весьма различно. Общим для них является, во-первых недостаточная рефлексия по поводу единиц анализа психики. Эта недостаточность рефлексии выражается в нечеткости определения гносеологического и онтологического статуса выделяемых единиц и соответственно – в нечеткости определения их функций. Во-вторых, что более важно, психологи не формулировали нормативных требований к единицам анализа с точки зрения их соответствия (и возможности реконструкции на их основе) нередуцируемой психологической реальности (онтологический план) и не формулировали нормативных требований к единицам анализа с точки зрения логики той или иной философской традиции (гносеологический план). Поэтому нередко мотивация и обоснование выделения единиц анализа остаются за пределами исследования» [3, с. 86–87].
В.П. Зинченко указывает, что «для современного мышления характерен отказ от атомизма, понимание того, что целое несводимо к своим частям, к элементарным процессам, вскрыть структурное и функциональное единство целого можно можно лишь при условии изучения явления в активных состояниях» [3, с. 83].
В.П. Зинченко сформулировал требования к выделению единиц психического [3]. Назовем их.
-
1. Единица анализа должна быть не диффузным и не синкретическим целым, построенным из элементов, то есть путем соединения всего со всем, а структурным образованием, внутренне связанной психологической структурой.
-
2. Единица должна содержать в виде противоположностей свойства целого. Другими словами, единица должна в целом вычленять главные его внутренние противоположности и фиксировать их в себе. Эти противоположности (как в единице, так и в целом) всегда связаны.
-
3. Единицы жизнедеятельности, сохраняющие структурные свойства целого, должны быть способны к развитию, в том числе и к саморазвитию, то есть они должны обладать порождающими свойствами и возможностями трансформации в нечто иное по сравнению со своими исходными формами.
-
4. Единица должна быть живой частью целого. Л.С. Выготский использовал термины «живое единство», «живая клеточка». В то же время такая единица сама должна быть единым далее неразложимым целым, своего рода системой.
-
5. Необходимо исходить из таксономического подхода к единицам психологического анализа.
-
6. Единицы анализа психики, которые выполняют функции генетически исходных, должны иметь реальную чувственно созерцаемую форму.
-
7. Анализ, расчленяющий сложное целое на единицы, должен создавать возможность синтетического изучения свойств, присущих какому-либо сложному единству (целому) как таковому.
-
8. Выделяемые единицы анализа должны не только отражать внутреннее единство психических процессов, но также должны позволять исследовать отношение той или иной изучаемой психологической функции (или процесса) ко всей жизни сознания в целом и к его отдельным важнейшим функциям.
В.П. Зинченко отмечал, что «Л.С. Выготский внес существенный вклад в достижение единства описания психической жизни. Иное дело, что сегодня, спустя более 40 лет после того, как он предложил значение в качестве единицы анализа психики, мы считаем его недостаточным. Но любая другая единица, которая может быть предложена в качестве дополнительной или конкурирующей, должна включать в себя позитивные черты значения как единицы анализа психики» [3, с. 101].
В.П. Зинченко, как известно, предложил в качестве единицы психики «живое движение» [3]. При том что для изучения конкретных вопросов психологии были получены значимые результаты, следует констатировать: проблема предмета психологии как науки осталась пока что нерешенной.
Выскажем некоторые соображения сегодня, когда с момента написания работы В.П. Зинченко без малого прошло еще 40 лет.
Напомним, что В.П. Зинченко, обосновывая анализ по единицам, цитирует замечательного отечественного философа науки Э.Г. Юдина [15]. Э.Г. Юдин приводит примеры успешного использования этой технологии исследования из социально-экономической теории, эволюционной биологии, экологии – иными словами, из области естественных либо социальных наук. Возникает вопрос: насколько анализ, хорошо зарекомендовавший себя в естественных и социальных науках, применим к психологии? Как ни удивительно (и добавим – как ни прискорбно), вопрос о принадлежности современной психологии к той или иной группе научных дисциплин остается не решен. Некоторое время тому назад признавалась аргументация, в соответствии с которой разные уважаемые авторы отводили психологии особое место в классификации наук (Б.М. Кедров, Ж. Пиаже). Это означало, что психологию нельзя однозначно отне- сти к естественным, социальным или философским наукам – она имеет тесные двусторонние связи с этими группами дисциплин. Сейчас психологию почему-то относят к классу социогуманитарных дисциплин, хотя научное обоснование, сравнимое с кедровским, как представляется, просто отсутствует [6, 8]. Есть подозрения, что такая квалификация психологии была порождена «оптимизирующим» ходом мысли чиновника министерства образования и науки, упорядочивающего подготовку аспирантов в области философии науки, но не эпистемологическими исследованиями, о чем приходится сожалеть.
Дело в том, что в разных группах дисциплин есть свои закономерности, поэтому не стоит удивляться: что очевидно для естественной науки, не обязательно должно быть правильным для гуманитарной.
Что касается психологии, она имеет свою специфику, общие философские наработки в психологии зачастую не применимы.
Как нам представляется, это справедливо для современной психологии. В нашей стране психология в значительной степени приобрела настоящий вид под влиянием марксизма. Вероятно, по-другому и быть не могло. В советской психологии возражать против позиции, освященной именем Маркса, не мог никто. Даже мудрый С.Л. Рубинштейн разделял эту позицию: «Для того чтобы понять многообразные психические явления в их существенных внутренних взаимосвязях, нужно прежде всего найти ту “клеточку” или ячейку, в которой можно вскрыть зачатки всех элементов психологии в их единстве» [9, с. 173].
Обратим внимание на один момент: если с конструированием единиц анализа, «адекватных области исследования», все совершенно ясно – это перспективный подход к конкретному исследованию, то относительно применимости этого тезиса к «предмету науки» есть много сомнений. Не имея возможности обсуждать здесь этот вопрос сколь-нибудь подробно, обратим внимание, что на нынешнем уровне развития психологической науки адекватные целостному предмету единицы вряд ли могут быть сконструированы. Дело в том, что по большому счету мы пока не постигли сущности психического. Как прекрасно по этому поводу выразился Карл Юнг: «Мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его [психологического фактора] сущность» [16, с. 418]. Раз мы не понимаем в точности сущности целого, вряд ли мы сможем сконструировать единицы, отражающие эту не вполне понятную нам сегодня сущность.
Пока нам неизвестна природа души – подлинного предмета психологии, мы должны выбирать объекты нашего психологического исследования с большой осторожностью. Как нам представляется, нельзя допускать замены целостного совокупного предмета на клеточку или единицу. Ведь это должна быть такая единица, которая содержит в себе не только основные составляющие души (что само по себе проблематично), не говоря уже о том, что там должно быть представлено духовное начало. Большой вопрос про составные части последнего пока что остается без ответа.
Итак, повторим – как представляется, эта стратегия применительно к предмету психологии не применима. Сам по себе анализ по единицам в противовес анализу по элементам возражений не вызывает. Как метод исследования частных научных вопросов он, несомненно, имеет право на существование. Возражение вызывает, повторим, применение его к предмету психологии. Не случайно, как мы помним, Э.Г. Юдин предупреждал, что в психологии «ситуация более запутанна» [15, с. 307–308].
Обратим внимание на один принципиальный момент. Нам уже приходилось писать о том, что ло- гика выделения единиц неизбежно приводит к тому, что происходит «воплощение» психического, в частности, его сведение к тем или иным моделирующим представлениям [8]. Иными словами, уже в процессе понимания психического происходит определенная редукция. Такое сведение представляется неизбежным.
Этого не произойдет, если мы будем понимать под предметом науки психологии целостность, то есть совокупный предмет. Это создает принципиальную возможность идти не от элементов или единиц, а именно от целого. Причем целое это не то «трансцендентное “целое” в его непостижимой сущности», от которого предостерегал Э.Г. Юдин (см. выше). В нашем случае моделирующим представлением выступает «мир», но внутренний мир, который имеет свою архитектонику (созданную на основе опыта философских и психологических исследований в предшествующие столетия). Обратим внимание еще на один момент. Это единство не задается декларативно, а обнаруживается через единство входящих в него компонентов, которые трактуются не как разнородные, а, напротив, как взаимообусловленные (см. ниже в рамках настояще-

Владимир Дмитриевич Шадриков
го текста). Именно поэтому можно утверждать, что при таком подходе используется нередуктивная логика исследования.
Как мы видели, история поиска единиц достаточно длительна, но принципиального прорыва она пока не принесла. Во всяком случае, длинный список единиц психического, использование которых в психологии себя не оправдало, приведенный в цитированной работе В.П. Зинченко, убеждает, что, возможно, это не тот путь, который ведет к успеху. Поэтому нам представляется, что более надежной исследовательской стратегией является работа с целостным, совокупным предметом.
В далеком 1886 году замечательный русский психолог и методолог психологии В.Ф. Чиж отмечал: «В прошлом психологии мы не находим самого главного признака того, что предмет изучался научно, – равномерного прогресса; известно, например, как мало-помалу развивалась механика, выяснялись новые факты, создавались все более и более объясняющие теории, предыдущее дополнялось, а не уничтожалось последующим; не то в психологии: каждая новая система прежде всего объявляла несостоятельными все предыдущие, потому что это были метафизические системы психологии, а не последовательная разработка психологии как науки» [11, с. 5].
На первый взгляд может показаться, что это высказывание целиком относится к прошлому психологии, тем более что с момента написания этих строк прошло без малого полтора столетия, включивших в себя ХХ век, когда были получены наиболее важные результаты. Однако более пристальный анализ позволяет заключить, что в этих словах русского мыслителя, сказанных в XIX столетии, содержится рациональное зерно, делающее их во многом актуальными: «последовательной разработки» психологии как науки по-прежнему нет, поскольку есть соперничающие подходы. Есть основания полагать, что происходит так исключительно потому, что отсутствует совокупный предмет психологической науки, тогда как различные конкурирующие направления и подходы конструируют свои частные предметы.
Таким образом, использование совокупного предмета позволяет выйти на новый уровень интеграции психологического знания в научной психологии. Предлагая широкую трактовку предмета, мы тем самым получаем возможность вписать то, что было получено ранее, в новую общую схему. О внутреннем мире как предмете психологии писал в 1917 году С.Л. Франк [10]. Такого же мнения придерживались другие психологи. Здесь не место обсуждать историю исследований внутреннего мира человека.
Отметим лишь, что в новейшей истории пионером провозглашения внутреннего мира человека предметом психологии выступил В.Д. Шадриков [12–14].
Предполагаю, что с такой трактовкой предмета могли бы согласиться многие исследователи. Обратим внимание, что в такой трактовке нет ничего необычного. В качестве примера сошлемся на высказывание Л.М. Веккера: «Внутренний мир человека, его душа – она наш предмет. Она микрокосм, в котором все предстает в неразложимой целостности. Внешний мир легче поддается членению, а здесь все в духовной целостности» [4, с. 111]. Известный специалист, автор целостной теории психических процессов, как мы понимаем, не возражал против того, что психология должна изучать внутренний мир человека.
До недавнего времени не было возможности рассматривать внутренний мир человека в его целостности, внутренний мир был общей идеей. Работы В.Д. Шадрикова, в которых внутренний мир был не только провозглашен предметом психологии, но и была представлена его архитектоника, сделали возможным конкретизировать и опера-ционализировать внутренний мир человека, в связи с чем возникает возможность конкретно пересмотреть основные психологические понятия, выявив новые отношения между ними.
Следует особо подчеркнуть, что, когда мы говорим о целостном понимании предмета, о совокупном предмете, это никоим образом не означает, что он не дифференцирован, не имеет внутренней структуры.
Обратим внимание на следующие моменты:
-
1. Внутренний мир человека имеет свою архитектонику, которая описана и представлена [13]. Общая психология представлена как внутренний мир человека.
-
2. Когда говорят об изменении трактовки предмета психологии, обычно имеют в виду отказ от ста-
- рого понимания и «революционную» декларацию об изменении трактовки. Это означает «перерыв постепенности» и переход к новому подходу, то есть претензия на совершение революции. В данном случае ничего подобного не предполагается, ибо ничего не отвергается. В данном случае практически все понятия, которые включаются в общую психологию, сохраняются, результаты, полученные ранее, остаются, лишь дополнительно устанавливаются новые связи и отношения, которых нельзя было установить ранее, так как не существовало объединяющего целого.
-
3. Возникает вопрос: за счет чего происходит содержательное объединение предмета, выступающего как целостность? Ответ простой: за счет внутреннего объединения, позволяющего органично соединить то, что ранее выступало исключительно как разнородное. Центральным понятием в данном случае выступают способности. В настоящем подходе способности рассматриваются как центральное организующее понятие, позволяющее органично связать психические процессы (понимаемые как способности) с личностными чертами, мотивацией и формами активности. Подобного рода переосмысление было осуществлено в работах В.Д. Шад-рикова и его последователей [5, 8, 13]. Таким образом, внутренний мир рассматривается как имеющий свою структуру и уровневое строение.
Как следствие:
-
• новое удовлетворительное решение получает психофизиологическая проблема, поскольку функционирование внутреннего мира обеспечивается работой соответствующей функциональной системы [8, 13];
-
• снимается конфликт между конкурирующими принципами отражения и конструктивизма, поскольку во внутреннем мире разграничиваются сферы их действия [6, 8];
-
• удовлетворительно решается биосоциальная проблема обусловленности внутреннего мира человека, поскольку способности – центральное системообразущее понятие – рассматриваются на трех уровнях: уровне природных способностей, уровне субъекта деятельности и личностном уровне, что позволяет четко развести влияние указанных факторов;
-
• внутренний мир рассматривается как имеющий онтологический статус, поэтому психология получает статус фундаментальной науки, изучающей реально существующие явления [5, 8];
-
• пересматривается роль объяснения в психологии, появляется возможность нередуктивного объяснения [5].
Подводя итог, отметим, что, как нам представляется, будущее психологической науки связано с использованием именно совокупного предмета психологии. В настоящей статье как перспективный вариант трактовки совокупного предмета предлагается внутренний мир человека.
Список литературы Предмет психологии: принцип целостности и анализ «по единицам»
- Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1982. С. 291-436.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934. 304 с.
- Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. М.: Изд-во МГУ, 1983. 164 с.
- Логинова Н.А. Теоретик психологии Лев Маркович Веккер // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2019. Вып. 1. С. 106-115.
- Мазилов В.А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль, 2017. 419 c.
- Мазилов В.А. Психология: взгляд в будущее // Психологический журнал. 2017. Т. 38, № 5. С. 97-102.
- Мазилов В.А. Теория и метод в психологии. Ярославль: Изд-во Международной академии психологических наук, 1998. 356 с.
- Мазилов В.А. De anima: Предмет психологии и границы его постижения // Высшее образование сегодня. 2019. № 6. С. 60-70.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Изд. 2-е. М.: Гос. уч.-пед. изд.-во мин. просв. РСФСР, 1946. 704 с.
- Франк С.Л. Душа человека: Опыт введения в философскую психологию // Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб.: Наука, 1995. С. 417-632.
- Чиж В.Ф. Научная психология в Германии. СПб., 1886. 107 с.
- Шадриков В.Д. Внутренний мир человека. М., 2006. 386 с.
- Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Общая психология. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 411 с.
- Шадриков В.Д. О предмете психологии (Мир внутренней жизни человека) // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 1, № 1. С. 5-19.
- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978. 392 с.
- Jung K.G. Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psychologie // Ges. Werke. Bd. 8. 1967. S. 418-423.


